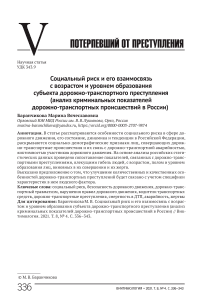Социальный риск и его взаимосвязь с возрастом и уровнем образования субъекта дорожно-транспортного преступления (анализ криминальных показателей дорожно-транспортных происшествий в России)
Автор: Баранчикова М. В.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Потерпевший от преступления
Статья в выпуске: 4 т.8, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности социального риска в сфере дорожного движения, его состояние, динамика и тенденции в Российской Федерации, раскрываются социально-демографические признаки лиц, совершающих дорожно-транспортные происшествия и их связь с дорожно-транспортной аварийностью, виктимностью участников дорожного движения. На основе анализа российских статистических данных проведено сопоставление показателей, связанных с дорожно-транспортными преступлениями, влекущими гибель людей, с возрастом, полом и уровнем образования лиц, виновных в их совершении и их жертв. Высказано предположение о том, что улучшение количественных и качественных особенностей дорожно-транспортных преступлений будет связано с учетом специфики характеристик в нем людского фактора.
Социальный риск, безопасность дорожного движения, дорожно-транспортный травматизм, нарушения правил дорожного движения, водители транспортных средств, дорожно-транспортные преступления, смертность в дтп, аварийность, жертвы
Короткий адрес: https://sciup.org/14121566
IDR: 14121566 | УДК: 343.9
Текст научной статьи Социальный риск и его взаимосвязь с возрастом и уровнем образования субъекта дорожно-транспортного преступления (анализ криминальных показателей дорожно-транспортных происшествий в России)
Орловский ЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова, Орел, Россия ,
Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia, Orel, Russia ,
Современная уголовно-правовая охрана сферы обеспечения безопасности дорожного движения приобретает особенности, обусловленные как изменением ситуации в данной области в неблагоприятную сторону, так и модернизированием, повышением автоматизации процесса управления автотранспортом. Внедрение автономных транспортных средств на дорогах общего пользования призвано стабилизировать ситуацию в сфере дорожного движения, сохранить жизнь и здоровье его участников, снизить дорожно-транспортный травматизм. Однако это направление отдаленной перспективы, достижимое в ситуации, когда число беспилотных транспортных средств на дорогах станет более 50 % от числа всех автомобилей, что позволит снизить аварийность на 70 % [1]. Пока же основным объектом деятельности по снижению уровня и тяжести последствий в сфере дорожного движения остается человек, вовлеченный в нее как основной участник, в том числе возможный виновный или потерпевший в дорожно-транспортном происшествии.
В многочисленных статистических сводках и исследованиях традиционно говорится о масштабности, высокой опасности и вредоносности последствий, причиняемых в результате нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств. Особенно трудно восполним, а часто и необратим ущерб, возникший при совершении их криминальных видов. Лишение жизни и причинение вреда здоровью наиболее трудоспособной категории российского населения сравнимое по масштабам с национальной трагедией может иметь долгосрочные последствия для социальной, экономической, демографической и иных значимых сфер общественной жизни. Это обуславливает важность снижения числа жертв дорожно-транспортных преступлений, обеспечения неотвратимости и соразмерности мер ответственности за причиняемые им последствия.
Стратегией безопасности дорожного движения на 2018–2024 гг. провозглашено стремление к числу не более четырех погибших на 100 тысяч населения к 2024 г. и нулевой смертности на дорогах — к 2030 г. Это обуславливает необходимость оценки современных характеристик социального риска и разработки мер его снижения как основополагающего направления в противодействии дорожнотранспортной аварийности. Установление зависимости уровня социального риска от возрастных, гендерных, образовательных характеристик участников дорожного движения позволит повысить его безопасность и минимизировать число погибших.
Описание исследования
Сегодня большинство аварий в России происходит из-за человеческого фактора, однако изучение участников дорожного движения с позиции уровня их предрасположенности быть виновниками дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельными последствиями, характеризуется фрагментарностью и неси-стемностью, отсутствием ярко выраженной ориентации на их социально-демографические особенности. Между тем социальные риски тесно связаны с человеческим фактором, то есть спецификой и поведением участников дорожного движения.
Социальный риск, являясь относительным показателем, определяется как число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 000 населения. Он связан с наиболее тяжкими последствиями дорожно-транспортных преступлений в виде смерти людей. Не случайно в российских федеральных целевых программах по повышению безопасности дорожного движения социальный риск обозначается как один из целевых индикаторов.
Согласно данным официальной статистики последние годы характеризовались снижением социального риска, в целом аварийности, объема и тяжести последствий в области дорожного движения. Однако уровень смертности от дорожных аварий в России все еще остается высоким по сравнению с зарубежными государствами и может нарастать по мере дальнейшей автомобилизации.
Если в 2017 г. социальный риск в России составлял 13 погибших на 100 000 населения, то в 2020 г. он снизился до 10,8. Цель федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» по сокращению смертности от ДТП к 2020 г. на 42,8 % по сравнению с 2012 г. была достигнута, причем на 13,98 % выше первоначальных плановых значений. В полном объеме был выполнен такой индикатор Программы, как число детей, погибших в ДТП1.
Достижению показателя социального риска 10,8 в 2020 году, при его планируемом целевом значении 10,9 погибших на 100 000 населения способствовала и реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако дальнейшие декларируемые позитивные изменения могли быть не достигнуты. Эксперты утверждали, что сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП) в 3,5 раза за следующие семь лет невозможно, поскольку ни одной стране в мировой истории это не удавалось в столь сжатые сроки [2].
Существенное ускорение динамики уменьшения социального риска ожидалось на период с 2022 по 2024 гг., но для достижения прогнозируемого значительного снижения количества погибших в ДТП были необходимы выработка и применение новых подходов к повышению безопасности дорожного движения [3, с. 313]. Осознание данного факта послужило основанием для смещения конечного года достижения показателя социального риска с 2024 на 2030 г. Целью действующих программных документов в сфере дорожного движения является поэтапное снижение социального риска к 2024 г. — до 8,4, а к 2030 г. — до 4.
Сегодня российские показатели криминальных дорожно-транспортных происшествий неблагоприятнее зарубежных аналогов [10; 11; 12; 13; 14]. Человеческий фактор, оставаясь преобладающим в механизме их совершения, по-прежнему оказывает крайне негативное влияние на уровень дорожно-транспортного травматизма и тяжесть его последствий.
Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 74/229 период с 2021 по 2030 гг. провозглашен Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения, его целью является снижение смертности и травматизм в результате ДТП не менее, чем на 50 %. В ней отмечается, что «дорожно-транспортные происшествия ежегодно являются причиной почти 1,3 миллиона предотвратимых смертей и приблизительно 50 млн травм, что делает их главной причиной смертности среди детей и молодых людей во всем мире1. В докладе ВОЗ 2020 г. ДТП названы ведущей причиной смерти детей в возрасте от 5 до 14 лет.
В 2020 г. в России было зарегистрировано более 145 073 ДТП, где погибли 16 152 человека. При этом 13 % из них представляли собой дорожно-транспортные преступления, а каждое девятое было со смертельным исходом. В период 2017–2020 гг. наблюдалось уменьшение числа преступлений против безопасности дорожного движения, квалифицируемых по ст. 264 УК РФ. Если в 2017 г. их было совершено 21 007 (–4,6 %), то в 2018 — 20 144 (–4,1 %), в 2019 — 19 618 (–2,6 %), 2020 — 18 629 (–5 %) [4]. Хотя их число имело тенденцию к снижению, каждое одиннадцатое ДТП в России приводило к смертельному исходу, а каждый шестой смертельный случай приходился на водителей, находящихся в состоянии опьянения, а таковым был каждый тринадцатый водитель.
В 2020 г. число осужденных по ст. 264 УК РФ составило 7698 человек, из которых 41 % были осуждены по частям 3–6 ст. 264 УК РФ, предусматривающим последствия в виде смерти людей [5].
В России ежегодно жертвами ДТП становится наиболее социально-активная и трудоспособная часть населения страны, а также дети. В размещенной на сайте НИЦ БДД России2 информации о показателях аварийности, отдельное внимание уделено распределению лиц, виновных и погибших в дорожно-транспортных происшествиях, по возрасту, гендерному признаку и уровню образования.
Согласно данным статистики, в 81 % случаев виновными в дорожно-транспортных происшествия являются мужчины. Тяжесть последствий совершенных по их вине деяний в 1,5 раза выше, чем у виновных женщин. В 2020 г. 91,4 % осужденных за преступления, предусмотренные ст. 264 УК РФ, были лицами мужского пола.
Дифференциация осужденных по возрасту показала, что более склонными к совершению преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта по неосторожности оказались лица в возрасте до 24 и старше 50 лет. Аналитики объясняют это сравнительно небольшим опытом управления автомобилем у молодых людей, а также психофизиологическими особенностями людей пожилого возраста, оказывающих негативное влияние на активную безопасность водителя [5].
Официальные данные свидетельствуют об увеличение числа ДТП, совершенных лицами в возрасте до 15 лет. Их доля в 2020 г. увеличилась на 30, 1 %, а в возрасте от 16–17 лет — на 4,2 %. К негативным тенденциям относился рост всех основных показателей аварийности по вине водителей моложе 20 лет. Количество совершенных по их вине ДТП возросло на 6,7 %, погибших — на 11,1 %, раненых — на 5,4 %3. Значимую роль играло снижение среднего возраста водителей в целом и нарушителей в частности.
Высокий риск для участников дорожного движения исходил от водителей в возрасте 30–39 лет, ставших в 2020 г. виновниками почти каждого четвертого ДТП (24,4 %), где наблюдалось наибольшее число погибших (21,7 %) и раненых (25, 6 %). При этом имел место рост погибших на 0,8 % в ДТП, совершенных водителями в возрасте от 35 до 39 лет.
Наибольшая тяжесть последствий (9,7) была характерна для водителей старше 80 лет. На 31,8 % возросло число погибших по вине лиц в возрасте 70–74 года. На основании этого очевиден вывод о том, что, что тяжесть последствий дорожно-транспортных преступлений возрастает одновременно с увеличением возраста водителей автотранспорта. В этой связи не лишенными оснований выглядят предложения об установлении предельного возраста лиц, дающего право на управление автотранспортом.
Между тем распространенным на протяжении многих лет считается возраст водителей-нарушителей от 18 до 24 лет. Совершение по их вине значительного объема дорожно-транспортных происшествий связано с небольшим опытом вождения транспортных средств, который сочетается с завышенной оценкой своих возможностей, склонностью к лихачеству, частому употреблению спиртных напитков, низким уровнем развития и т. д.
В возрастной группе молодежного и зрелого возраста находится наибольшее число водителей, явившихся субъектами агрессивного вождения, среди которых 70 % составляют лица мужского пола [6, с. 35]
Спецификой социального статуса и уровня образования характеризовались субъекты дорожно-транспортных преступлений. В прошедшем году преобладающую часть среди осужденных по ст. 264 УК РФ составили трудоспособные лица, не имеющие постоянного источника дохода, доля которых была 38,9 %, а также рабочие — 35,5 %.
Показатели дорожно-транспортной аварийности демонстрируют преобладание виновных лиц со средним профессиональным образованием, доля которых в 2020 г. составила 42,8 %. При этом среди осужденных за преступные нарушения правил дорожного движения лица, имеющие среднее профессиональное образование, составили 39 %. В свою очередь лица со средним 340
образованием были признаны виновными в 29,2 % дорожно-транспортных происшествий, а 20,3 % происшествий произошло по вине тех, кто имел высшее образование. Наименьшая доля ДТП пришлась на лиц, не имеющих или не получивших образование, составив 0,1 %, а также лиц, имеющих ученую степень — 0,02 %.
В дорожно-транспортных происшествиях прослеживалась ярко выраженная зависимость между тяжестью последствий дорожных аварий и уровнем образования их виновников. Так, тяжесть последствий в ДТП, совершенных по вине лиц со средним или средним профессиональным образованием выше, чем у участников с более высоким уровнем образования. Наиболее высокая тяжесть последствий (11,1) наблюдалась в ДТП по вине лиц, не имеющих или не получивших образование. Она составила у лиц со средним образованием — 9,5, средним профессиональным — 8,4, высшим образованием — 5,3, а у лиц, имеющих ученую степень — 2,4.
Наибольший социальный риск наблюдался в дорожно-транспортных преступлениях, совершенных по вине участников, имеющих среднее (22,2) и среднее профессиональное (12,9) образование, а наименьшее — по вине лиц, имеющих ученую степень (0,1).
От уровня образования участника дорожного движения зависит не только вероятность стать виновником, но и быть жертвой ДТП [7]. Наиболее высокий показатель социального риска, составляющий 32,9 характерен группе погибших, имеющих среднее образование. Показатели социального риска других групп ниже в 1,5 и более раза. Его наименьшее значение наблюдалось у лиц, имеющих ученую степень, где показатель социального риска был меньше в 41 раз и составил 0,8 [4].
Анализ гендерных характеристик погибших показал, что чаще ими становились мужчины в возрасте 30–34 лет. Риск смерти в результате автотранспортных преступлений для мужчин составил 74 % погибших. Однако у женщин-водителей больше шансов получить травмы при аварии.
В разделе Глобальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения, посвященном учету гендерной проблематики в процессе транспортного планирования, указано, что, «несмотря на то, что женщины более уязвимы в случае аварии, у них гораздо меньше шансов погибнуть в результате ДТП, чем у мужчин. Обычно они гибнут, будучи пешеходами и пассажирами. Мужчины-водители автомобилей и мотоциклов повергаются в 2–4 раза более высокому риску в расчете на километр, чем женщины. Однако у женщин риск получения серьезных травм в результате ДТП на 47 % выше, чем у мужчин. Анатомические гендерные различия могут быть причиной более высокого травматизма среди женщин»1.
В 2020 г. повышенную виктимность демонстрировали лица в возрасте от 15 до 29 лет, из числа погибших ими становился каждый пятый (24 %). Однако на вероятность становления жертвой дорожных аварий влияет не только вид участника дорожного движения, но и его сочетание с возрастом. В 2020 г. каждый четвертый погибший являлся пешеходом, 11 % составляли мотоциклисты, 5 % — велосипедисты. Возрастные коэффициенты смертности пешеходов росли с увеличением возраста, достигая максимума в старших возрастах, особенно после 75 лет. В свою очередь возрастной профиль смертности у водителей и пассажиров имел высокий показатель в возрасте с 15 до 25 лет, достигает пика в 25–29 лет. Однако данные особенности не находят отражения в стратегиях безопасности дорожного движения в качестве приоритетных направлений. Единственным возрастным индикатором смертности является ее оценка применительно к детскому дорожно-транспортному травматизму.
На определении уровня виктимности участника дорожно-транспортного преступления основывается эффективность деятельности по минимизации виктимо-логических рисков в сфере дорожного движения [8]. И хотя возраст, пол, образование и род занятий участников дорожного движения сложно скорректировать с целью повышения их безопасности, важно эффективно реализовать программы, которые применяются в данном направлении на международном и национальных уровнях.
Сегодня для анализа национальной динамики состояния безопасности дорожного движения показатель социального риска не всегда оказывается продуктивен. В России, где население практически стабильно, кривая социальных рисков в точности воспроизводит кривую абсолютных показателей смертности в ДТП. Справедливо мнение, что более информативный показатель — количество погибших в расчете на единицу суммарного пробега автомобильного парка [9, с. 19]. В аналитических сводках МВД России наряду с социальным риском, активно используются показатели транспортного и дорожного рисков, характеризующие число лиц, погибших в ДТП, соответственно на 10 тысяч транспортных средств и на 100 км протяженности дорог.
Цели в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также 12 глобальных целевых показателей в области обеспечения безопасности дорожного движения включают активное принятие мер по 50 % сокращению дорожно-транспортной смерт-ности2. Одним из направлений достижения поставленных целей может стать воздействие на участников дорожного движения с учетом опасности и уязвимости связанных с ними факторов.
Заключение
Особенности участников дорожного движения, связанные с их половозрастной, образовательной спецификой, имеют важное значение для оценки социальных рисков в дорожно-транспортной сфере, а также их общественной опасности и потенциальной виктимности, могут быть использованы для прогнозирования дорожно-транспортного травматизма.
В связи с тем, что участники дорожного движения в разных возрастных группах подвержены разным рискам смерти, то приоритеты в формировании политики в области безопасности дорожного движения должны быть расставлены с учетом этих особенностей.
В настоящее время определяющей целью снижения аварийности на дорогах остается воздействие на участников дорожного движения с учетом их социально-демографических, ролевых особенностей. Представляется, что улучшение количественных и качественных особенностей дорожно-транспортных преступлений будет связано с учетом специфики характеристик в нем людского фактора.
Список литературы Социальный риск и его взаимосвязь с возрастом и уровнем образования субъекта дорожно-транспортного преступления (анализ криминальных показателей дорожно-транспортных происшествий в России)
- Ищенко Е. П. Смертельно опасная триада, или все о дорожной безопасности. Москва, Проспект. 2021. 368 с.
- Пьянкова А. И., Фаттахов Т. А. Смертность от дорожно-транспортных происшествий в России: подходы к оценке, тенденции и перспективы // Демографическое обозрение. 2019. № 3. С. 58-84.
- Миронов В. Л. Социальный риск как один из показателей безопасности дорожного движения // Управление деятельностью по обеспечению безопасности дорожного движения: состояние, проблемы, пути совершенствования. 2019. № 1 (2). С. 311-315.
- Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 2020 год. Информационно-аналитический обзор. Москва : НЦ БДД МВД России, 2021. 79 с.
- Правоприменительная деятельность в области безопасности дорожного движения в 2020 году. Информационно-аналитический обзор. Москва : НЦ БДД МВД России, 2021. 75 с.
- Кузнецова И. И. Личностные особенности водителей, демонстрирующих опасный стиль вождения, приводящий к дорожно-транспортным происшествиям // Научный вестник Орловского юридического института МВД России им. В. В. Лукьянова. 2020. № 3 (84). С. 34-38.
- Майоров А. В., Царакова А. П. Виктимологические аспекты дорожно-транспортных происшествий : монография. Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2009. 181 с.
- Кашкарова Н. А. О необходимости активизации проведения виктимологических исследований дорожно-транспортной преступности в современных условиях // Виктимология. 2017. № 3 (13). С. 70-73.
- Блинкин М. Я., Решетова Е. М. Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный опыт, базовые институции. Москва : 2013. 240 с.
- Bekar E. Injury and death offences in traffic accidents caused by criminal negligence // Journal of penal law and criminology-Ceza hukuku ve kriminoloji dergisi. 2016. Vol. 4, No. 1. Р. 105-117.
- Cabrera-Arnau C., Prieto Curiel R., Bishop S. R. Uncovering the behaviour of road accidents in urban areas // Royal Society Open Science. 2020. Vol. 7. URL: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/ rsos.191739 (дата обращения: 29.10.2021).
- Erdogan S. Explorative spatial analysis of traffic accident statistics and road mortality among the provinces of Turkey // Journal of safety research. 2009. Vol. 40. No 5. P. 341-351. DOI: 10.1016/j.jsr.2009.07.006
- Hayakawa H., Fischbeck P. S., Fischhoff B. Traffic accident statistics and risk perceptions in Japan and the United States // Accident; analysis and prevention. 2000. Vol. 32. No 6. P. 827-835. DOI: 10.1016/ s0001-4575(00)00007-5
- Risk factors for extremely serious road accidents: Results from national Road Accident Statistical Annual Report of China / Liu G. [et al.]. // PLoS ONE. 2018. Vol. 13. No 8. URL: https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0201587