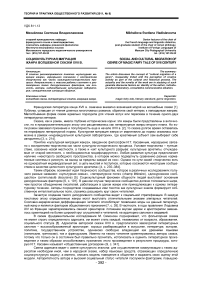Социокультурная миграция жанра волшебной сказки XVII в
Автор: Михайлова Светлана Владиславовна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 8, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается понятие «культурная миграция жанра», неразрывно связанное с восприятием творчества как части культурно-исторического процесса. Актуальность и новизна работы состоят в рассмотрении таких дискурсогенных факторов, как личность автора, индивидуальная культурная лаборатория, совещательная ситуация общения.
Волшебная сказка, литературный эталон, миграция жанра
Короткий адрес: https://sciup.org/14933696
IDR: 14933696 | УДК: 811.13
Текст научной статьи Социокультурная миграция жанра волшебной сказки XVII в
Французская литература конца XVII в. означена внезапно возникшей модой на волшебные сказки [1]. Публика, уставшая от чтения длинных многотомных романов, обратила свой интерес к лапидарным жанрам. Малообъемная форма сказки идеально подходила для чтения вслух или пересказа в течение одного-двух литературных вечеров.
Сказка, как и роман, имела глубокие исторические корни: эти жанры были представлены в античности, но в предпросветительскую эпоху они расценивались как литературные жанры второго плана. Но если роман завоевал признание и популярность еще в начале XVII в. [2], то сказка долгое время оставалась на периферии литературной нормы. Культурная миграция жанра от маргиналии до нормы оказалась возможна в рамках «индивидуальной культурной лаборатории», где креативный субъект сам выбирает себе авторитеты [3, c. 214].
Понятие «культурная миграция жанра», введенное философом И.Т. Касавиным, неразрывно связано с восприятием творчества как части культурно-исторического процесса. Условие творчества – путешествие, освоение новой местности, а также и «акт культурного разрыва: культурные архетипы, отчуждаемые от старой местности, с необходимостью модифицируются». Любая развитая культура предполагает наличие «некоторого свободного пространства, в котором можно подвергнуть сравнению разные нормативные системы и рискнуть на выход за пределы каждой из них». Однако по сути своей «творчество есть не однократный индивидуальный акт, а цепь мыслей и поступков, которые осознаются некоторым сообществом в качестве целостного культурного архетипа» [4, с. 235–384].
Таким образом, возникает идея творческого сообщества, которое в различных исследованиях получило разные названия: «культурная семья», «литературное поле» (champ littéraire), «дискурсивное сообщество» (communauté discursive) [5]. Социокультурный феномен общности людей выступает основным дискурсогенным фактором [6, с. 191]. В данном случае творческое сообщество должно толковаться шире, чем простое объединение писателей, работающих в одном жанре или принадлежащих к одному литературному течению. Авторы посредством создаваемых ими текстов как культурных знаков формируют собственное интеллектуальное поле, стремясь расширить круг своих читателей.
Зачастую создание такого дискурсивного сообщества ведет к социальной стратификации. В каждую текстовую эпоху определенные жанры могут выступать отличительными знаками элитарных читателей. Сословно-иерархическая дифференциация читателя способствует появлению моды на данный литературный жанр и является фактором общественного признания [7, с. 38]. В частности, в годы правления Людовика XIV во Франции характеризовались сменой ориентиров: потакание вкусам церкви и аристократии заменилось ориентацией на более широкий круг слушателей и читателей, на аудиторию салонов и академий.
В своем фундаментальном исследовании М. Симонсен подчеркивает, что фольклорная сказка не имеет строго определенного адресата, им может стать каждый, независимо от возраста, образования, социального статуса [8]. Адресатом авторской сказки XVII в. предполагался завсегдатай литературных салонов – высокообразованный аристократ, хорошо разбирающийся в искусстве, литературе, истории, политике, государственном устройстве, одинаково свободно владеющий как древними языками (латинским, греческим), так и французским. Именно на такого читателя ориентировались авторы сказок, потому что только он в состоянии был правильно прочитать, истолковать и оценить литературное произведение и таким образом способствовать признанию этого произведения в результате процедуры, которую И.Т. Касавин называет «общественным договором» [9, с. 341].
Смена адресата ведет к смене культурного эталона: для осуществления коммуникации с таким адресатом необходим иной, чем в народной сказке, набор языковых средств, отражающих определенную социокультурную задачу, а именно, описать модель поведения в обществе и выразить свою оценку этой модели. Авторитетность автора и высокий социальный статус читателя послужили факторами, повышаю- 392 - щими литературную и эстетическую значимость жанра волшебной сказки. А смена коммуникативного пространства (переход сказки из детской в салон) повлекла за собой смену задач автора. Через новый литературный жанр писатели стремились показать реальные и возможные способы общения на французском языке, укрепляя, таким образом, позиции национального языка и воспитывая языковые вкусы говорящих на родном языке.
Культурной миграции жанра от маргиналии до нормы также способствовала смена адресанта. Если спецификой фольклорной сказки является его коллективность и анонимность, репрезентирующие «усредненную языковую личность» [10, с. 9], то литературная сказка – всегда авторское произведение. Личностное начало писателя, реального человека, должно выходить на первый план. Однако многие волшебные сказки, опубликованные в XVII - начале XVIII в., печатались без указания имени автора. Отмечено, что имя автора литературной сказки классического периода может быть обозначено по-разному:
-
- использование настоящего имени автора;
-
- использование псевдонима;
-
- использование криптонима (скрываемого имени, например, инициалов) или астронима (фамилия автора заменяется звездочками), то есть анонимное издание;
-
- использование проксонима (имени близкого автору человека, например, имени сына) [11, с. 150–153].
В конце XVII в. большой популярностью пользовались сочинения авторов-женщин, написавших три четверти сказок французского барокко: Мари-Катрин д'Онуа (Marie-Catherine d'Aulnoy), Луизы д'Онёй (Louise d'Aulneuil), Катрин Бернар (Catherine Bernard), Катрин Бедасье-Дюран (Catherine Bédacier-Durand), Шарлот-Роз де ла Форс (Charlotte-Rose de La Force), Мари-Жан Леритье де Виландон (Marie-Jeanne Lhéritier de Villandon), Анриет-Жюли де Мюра (Henriette-Julie de Murat), чьи произведения чаще всего печатались именно анонимно. В связи с чем нередко возникали трудности с атрибуцией текстов. В частности, Мадам д'Онуа, Мадам де Мюра, Мадемуазель де ла Форс использовали при публикации инициал D и астроним, например:
-
- Мадам д'Онуа: Les contes des Fées, par Madame D**, 1697;
-
- Мадам де Мюра: Histoires sublimes et allégoriques par Mme la comtesse D***, dédiées aux fées modernes, 1699;
-
- Мадемуазель де ла Форс: Les Contes des Contes par Mademoiselle D***, 1697.
Мадемуазель Леритье никогда не ставила свое имя под произведениями, что привело к тому, что ее сказки были ошибочно приписаны Ш. Перро, ее дяде по материнской линии. Лишь в 1888 г. ее подлинное авторство было восстановлено [12, с. 47–48].
Ученые выдвигают несколько гипотез, объясняющих частую анонимность литераторов. Гипотезы социокультурного плана трактуют анонимность, или псевдонимику, как попытку автора-аристократа избежать осуждения современников за такое «недостойное» занятие как сочинительство или за обращение к «непрестижным» жанрам романа, сказки [13]. В гипотезе прагматического характера рассматривается желание писателей-сказочников следовать фольклорной традиции безымянности [14, с. 117].
Произведения эпистолярного и мемуарного жанров также приветствовались, но читателями их должны были оставаться представители узкого круга, то есть близкие и знакомые. Письма, мемуарные записки, отчеты о путешествиях, зачитывались вслух в аристократических салонах, оставаясь недоступными для широкого читателя. Предполагаем, что публиковаться для женщин-писательниц значило не только оскорбить приличия, но и отказаться от своего знатного происхождения. Неслучайной, на наш взгляд, была практика того времени использования имен подставных лиц или анонимных публикаций с указанием издателями «особа высокого звания» ( personne de qualité ). Так, например, первый английский перевод сказки Мадам д'Онуа, опубликованный в 1691 г., вышел под заголовком «Тhe HISTORY of ADOLPHUS, Prince of RUSSIA; And The Princess of HAPINESS» by a Person of Quality («ИСТОРИЯ АДОЛЬФА, принца РОССИИ; И принцессы CЧАСТЬЯ» написанная Особой высокого звания ).
В условиях подобного негативного отношения к женскому сочинительству, салонное литературное творчество было призвано повлиять на читательскую аудиторию, изменить стереотип восприятия, существующий в отношении женщин-писательниц. По мнению М.М. Бахтина, всякое обычное, традиционное поведение, не нарушающее стандартных общественных норм, неизбежно обречено на кризис, так как любое реальное индивидуально-сознательное действие в определенной ситуации предполагает вольное или невольное отклонение от стереотипа [16]. Кризис ритуального поведения может выразиться в форме единичного отклонения, что расценивается как нарушение норм и осуждается, но может приобрести и более существенный характер в виде «регулярного отклонения от ритуала значительной части членов социума, свидетельствующем о необходимости изменения самого ритуала». В последнем случае кризис достигает наивысшей степени развития и влечет за собой необходимость планировать совместную деятельность в будущем. Речепорождение в такой ситуации носит, согласно И.В. Пешкову, «общественно вынужденный характер» [17, с. 58–61], оно максимально осознается «человеком действующим словом» (homo verbo agens) [18, с. 12] и становится в полной мере ответственным речевым поступком.
Активизация женского литературного творчества в конце XVII в., на наш взгляд, может быть расценена как совещательная ситуация общения (в терминологии И.В. Пешкова). В такой совещательной си- 393 - туации отрицается старый ритуал и осваиваются новые способы общения участников коммуникации. Женский литературный салон позволил дамам-сочинительницам найти и реализовать свою авторскую идентичность, сформировать собственное дискурсивное сообщество и посредством волшебных сказок, созданных ими, повлиять на развитие французской литературы того периода. Постепенно произведения женщин-писательниц вышли из разряда литературной маргиналии и приобрели новый смысл, воплощенный в новой жанровой форме и нацеленный на определенное социальное воздействие.
Ссылки: References (transliterated):
-
1. Storer M.E. La mode des contes de fées (1685-1700), Un épisode littéraire de la fin du XVIIe siècle. Paris: Champion, 1928. Slatkine Reprints: Genève, 1972.
-
2. Gibert B. Le baroque littéraire français. Paris: Armand Colin, 1997.
-
3. Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы
неклассической теории познания. СПб., 1999.
-
4. Там же.
-
5. См.: Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. СПб., 1999 ; Bourdieu P. Les Règles de l'art. Paris: Seuil, 1992 ;
-
6. Силантьев И.В. Газета и роман: риторика дискурсных смешений / отв. ред. Ю.В. Шатин. М., 2006.
-
7. Викулова Л.Г. Паратекст французской литературной сказки: прагмалингвистический аспект: дисс. … д-ра фи-лол. наук. Иркутск, 2001.
-
8. Simonsen M. Le conte populaire français. Paris, 1981.
-
9. Касавин И.Т. Указ. соч.
-
10. Гронская О.Н. Немецкая народная сказка: язык и картина мира. Монография. СПб., 1998.
-
11. Викулова Л.Г. Указ. соч.
-
12. Storer M.E. La mode des contes de fées (1685-1700), Un épisode littéraire de la fin du XVIIe siècle. Paris: Champion, 1928. Slatkine Reprints : Genève, 1972.
-
13. См.: Дюлон К. От беседы к творчеству // История женщин на Западе: в 5 т. // Т. III: Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения / под общ. ред. Ж. Дюби и М. Перро; под ред. Н. Земон Дэвис и А. Фарж. СПб., 2008. С. 407-434 ; Чекалов К.А. Формирование массовой литературы во Франции XVII – первая треть XVIII века. М., 2008.
-
14. Marin L. Préface-image. Le frontispice des Contes-de-
Perrault // Europe. 1990. P. 114–121.
-
15. Дюлон К. Указ. соч.
-
16. Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. М.,
1986. С. 80-160.
-
17. Пешков И.В. Введение в риторику поступка: учебное
пособие. М., 1998.
-
18. Там же.
Maingueneau D. Le contexte de l’oeuvre littéraire. Enoncia-tion, écrivain, société. Paris: Dunod, 1993.
-
1. Storer M.E. La mode des contes de fées (1685-1700), Un épisode littéraire de la fin du XVIIe siècle. Paris: Champion, 1928. Slatkine Reprints: Genève, 1972.
-
2. Gibert B. Le baroque littéraire français. Paris: Armand Colin, 1997.
-
3. Kasavin I.T. Migratsiya. Kreativnostʹ. Tekst. Problemy neklassicheskoy teorii poznaniya. SPb., 1999.
-
4. Ibid.
-
5. See: Kasavin I.T. Migratsiya. Kreativnostʹ. Tekst. Problemy
neklassicheskoy teorii poznaniya. SPb., 1999 ; Bourdieu P. Les Règles de l'art. Paris: Seuil, 1992 ; Maingueneau D. Le contexte de l’oeuvre littéraire. Enoncia-tion, écrivain, société. Paris: Dunod, 1993.
-
6. Silantʹev I.V. Gazeta i roman: ritorika diskursnykh smesh-eniy / ex. ed. Y.V. Shatin. M., 2006.
-
7. Vikulova L.G. Paratekst frantsuzskoy literaturnoy skazki: pragmalingvisticheskiy aspekt: diss. … d-ra fi-lol. nauk. Irkutsk, 2001.
-
8. Simonsen M. Le conte populaire français. Paris, 1981.
-
9. Kasavin I.T. Op. cit.
-
10. Gronskaya O.N. Nemetskaya narodnaya skazka: yazyk i kartina mira. Monograph. SPb., 1998.
-
11. Vikulova L.G. Op. cit.
-
12. Storer M.E. La mode des contes de fées (1685-1700), Un épisode littéraire de la fin du XVIIe siècle. Paris: Champion, 1928. Slatkine Reprints : Genève, 1972.
-
13. See: Dyulon K. Ot besedy k tvorchestvu // Istoriya zhenshchin na Zapade: in 5 vols. // Vol. III: Paradoksy epokhi Vozrozhdeni-ya i Prosveshcheniya / under general ed. of J. Dyubi and M. Perro; ed. by N. Zemon Devis i A. Farzh. SPb., 2008. P. 407-434 ; Chekalov K.A. Formirovanie massovoy literatury vo Frantsii XVII – pervaya tretʹ XVIII veka. M., 2008.
-
14. Marin L. Préface-image. Le frontispice des Contes-de-
Perrault // Europe. 1990. P. 114–121.
-
15. Dyulon K. Op. cit.
-
16. Bakhtin M.M. K filosofii postupka // Filosofiya i sotsiologiya nauki i tekhniki. Ezhegodnik 1984-1985. M., 1986.
-
17. Peshkov I.V. Vvedenie v ritoriku postupka: textbook. M.,
-
18. Ibid.
P. 80-160.
Список литературы Социокультурная миграция жанра волшебной сказки XVII в
- Storer M.E. La mode des contes de fées (1685-1700), Un épisode littéraire de la fin du XVIIe siècle. Paris: Champion, 1928. Slatkine Reprints: Genève, 1972.
- Gibert B. Le baroque littéraire français. Paris: Armand Colin, 1997.
- Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. СПб., 1999
- Bourdieu P. Les Règles de l'art. Paris: Seuil, 1992
- Maingueneau D. Le contexte de l'oeuvre littéraire. Enonciation, écrivain, société. Paris: Dunod, 1993.
- Силантьев И.В. Газета и роман: риторика дискурсных смешений/отв. ред. Ю.В. Шатин. М., 2006.
- Викулова Л.Г. Паратекст французской литературной сказки: прагмалингвистический аспект: дисс. … д-ра филол. наук. Иркутск, 2001.
- Simonsen M. Le conte populaire français. Paris, 1981.
- Гронская О.Н. Немецкая народная сказка: язык и картина мира. Монография. СПб., 1998.
- Storer M.E. La mode des contes de fées (1685-1700), Un épisode littéraire de la fin du XVIIe siècle. Paris: Champion, 1928. Slatkine Reprints: Genève, 1972.
- Дюлон К. От беседы к творчеству // История женщин на Западе: в 5 т. // Т. III: Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения / под общ. ред. Ж. Дюби и М. Перро; под ред. Н. Земон Дэвис и А. Фарж. СПб., 2008. С. 407-434
- Чекалов К.А. Формирование массовой литературы во Франции XVII -первая треть XVIII века. М., 2008.
- Marin L. Préface-image. Le frontispice des Contes-de-Perrault//Europe. 1990. P. 114-121.
- Бахтин М.М. К философии поступка//Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984-1985. М., 1986. С. 80-160.
- Пешков И.В. Введение в риторику поступка: учебное пособие. М., 1998.