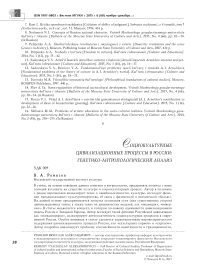Социокультурные цивилизационные процессы в России: генетико-антропологический анализ
Автор: Ремизов Вячеслав Александрович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (68), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье, на основе новейших данных генетики и антропологии, предпринята попытка с иных позиций взглянуть на существо культуры и социокультурный процесс. Автор в полемике с рядом персоналиев анализирует тезис о «внебиологичности» культуры, исследует феномен «медикализации» культуротворчества, её связь с физической и психической «болью». На данной основе предпринимается попытка осознания сути (или существенных сторон) цивилизационных типов, а также таких их динамических моделей, как «медиация», «инверсия». В статье выдвигается концепт, в котором по-новому оценивается цивилизационная модель России и Западной Европы. Автор исследует такой феномен Российской цивилизации как «псевдоморфоз», иллюстрирует антиполитичность социокультурных процессов в современной России. Особое внимание в статье уделяется характеристикам мировоззренческого содержания цивилизационного процесса России, его «культурных корней» и «скрепов». Автор подробно анализирует проблему соотнесённости идентичности и традиционности, традиционности и модернизации, идентичности и застоя, упадка. В статье делается вывод о цивилизационной специфичности России, в которой идентичность, традиционность и динамизм соотносительны и каждый проявляет себя в системе гармонического единства, а цивилизационные процессы структурно дифференцированы. В их трендах и трансформациях играют свою роль и бифуркации, и социальные обусловленности. Однако они значительно связаны с генетико-антропологическими детерминантами.
Культура, цивилизация, социокультура, культурная динамика, антропология, генетика, идентичность, традиционность, динамизм
Короткий адрес: https://sciup.org/144160963
IDR: 144160963 | УДК: 009
Текст научной статьи Социокультурные цивилизационные процессы в России: генетико-антропологический анализ
Как показывает наука сегодняшнего дня (на основе расшифровки генома человека), социальные, культурные и психологические характеристики людей глубоко укоренены в их биологических, а также генетических механизмах и во многом обусловлены ими. Отсюда культурные механизмы людей объясняются наличием не только соответствующих социальных (социопсихологических), но и глубинных биологических (генетических) предпосылок. Здесь можно уже резюмировать и более определённо: биологические механизмы предваряют как социальные, так и культурные проявления человеческой природы (А. Я. Флиер [24; 25], И. В. Кондаков). Вместе с тем сегодня установлен ещё один аспект взаимодействия биологического и культурного — медикализация человека и аккультурация боли [7. с. 17]. Таковы базовые исходные положения на основе новейших данных научных исследований человеческой природы. Они дают возможность прийти к ряду принципиальных выводов. Первый из них связан с сущностным понятием культуры. Он заключается в несостоятельности до сих пор конституированного как главного, коренного признака культуры и культуротворче-ства: «внебиологическая» созидательная деятельность человека (академик В. С. Степин). Оказывается эта «деятельность» в значительной мере — биологически определена.
Относительно боли (физической и психической) речь в большинстве случаев идёт — в связи с процессами культурно-художе- ственного творчества. А вот проблема меди-кализации имеет более широкую культурологическую выраженность. Дело в том, что историческое цивилизационное бытие человечества, помимо географических, расовых, технологических оснований, различается ещё и характером питания (медико-биологическое основание). Отсюда выделяют пшеничную, ржаную и рисовую цивилизацию, ибо хлеб (и его производные) есть основа спецификации (психофизиологического существа) исторического и современного человечества. К пшеничной (по признакам генетики) относят западную цивилизацию, к ржаной — русско-славянскую, к рисовой — дальневосточную и юго-восточную.
Обратимся к устоявшейся типизации культурных кодов и поведенческих моделей народов. Так, авторитетный аналитик цивилизационных процессов А. Г. Ахиезер утверждает, что западноевропейской (пшеничной) цивилизации присущ так называемый медиационный способ развития, который И. В. Кондаков, в свою очередь, называет «либерально-демократическим». «Ржаную» цивилизацию связывают (по А. Г. Ахиезеру) с «инверсией». Она характеризуется как «маятниковая», как позиция крайностей (или полярностей). Однако в свете научных новаций есть основание высказать иное суждение. Культурно-исторический динамический код западноевропейских народов точнее можно было бы назвать рационально-медиативным. Это ближе к историко-культурным данным. Эволюционные периоды их истории действительно преобладали. Культурно-исторический динамический код русско-славянского цивилизационного этноса корректнее считать созерцательно-инверсионным, так как смирение, терпение и «бессмысленный, слепой бунт» (А. С. Пушкин) были одновременно родовым законом России, о чем высказывался и Н. А. Бердяев в работе «Судьба России». Изложенный подход позволяет доказательно судить и о некоторых исторических социокультурных «загадках» европейских народов и их цивилизационных деяниях. Так, напри- мер, много говорят о нонсенсе, связанном с «одичанием», «опущением» немецкого народа в эпоху фашизма, народа имеющего на своём «гамбургском счёте» такие общечеловеческие вершины, как Гегель, Фихте, Фейербах, Энгельс, Гёте, Шиллер, Бетховен, Бах, Кант, Ницше, Ясперс и другие. Сегодня становится понятна природа «скрытой» в генофонде европейцев неконтролируемой расчётливости, доходящей до агрессивности.
Финальный результат ориентации на рассудок зримо вписан в рыночную современность: расцвет общества потребления; «перезагрузка» иерархии ценностей; деньги триумфально заняли место цели, утратив их объективный статус средства, а человек выродился в “homo shoping”, в человека-приспособленца, в пустого гедониста, в голого прагматика. Между тем разум, а не рассудок, есть более высокая «способность души». По Гегелю — «всё действительное разумно», а не рассудочно! Разум — именно та инстанция, где сотворяется и творит Homo sapiens, с его подлинной — духовной сущностью, соединённой не с приземлённой «выгодой во чреве», а с высшими смыслами существования в душе и сердце — с добром, состраданием, совестью, любовью, истиной (Р. Г. Абдулатипов).
Современная Россия, конечно, черпает и свою долю из чаши прагматизма и потребительства. Однако наши православные и демократично-мусульманские традиции ориентированы всё-таки на возвышение своего существования. Вместе с тем в духовной матрице наших народов имеется веер «архетипов» (К. Юнг) и ментальностей, делающих наше сообщество не просто «загадочным» по душевному складу, но и тотально способным ко многим «заблуждениям» и культурным парадоксам. Одним из таких проявлений можно считать исторический «псевдоморфоз», который, по словам Г. Х фон Вригта, означает «… суперпозиционно импортированные пласты культурных достижений на местные формы … социальной жизни, вступающие в противоречие с их естественными возможностями развития и поиском самопонимания или идентитета» [2, с. 247—254.].
Яркий пример этому — неуклонное стремление значительной части нашей либеральной элиты всё строить и всецело жить по американским и западноевропейским лекалам. В пресловутые 90-е годы чуть ли не вся Россия была, что называется, «под кайфом» этих устремлений. А не выходит! Русскость всё перекраивает, как у А. Платонова в «Котловане» переставлены народом с ног на голову все социалистические идеи революции.
Вместе с тем, возвращаясь к ахиезеровской инверсивной формуле, правомерно утверждать, что в архетипе России истина приравнена к справедливости. Отсюда исходит русский максимализм (и связанные с ним бунты, революции, мятежи и т.п.). Максимализм — это отнюдь не инверсия. Он связан и с долготерпением, с долгой уживчивостью и покорностью, со смирением. Суть его также во «взрывах» (в том числе и культурных — по Ю. М. Лотману). Думается, что «псевдомор-фозом» отдаёт и наше теперешнее ныряние с головой в омут изжившего, если не замше- лого капитализма. Более того, как показывают современные исследования (М. Суриа, У. Эндаль, С. Л. Фокин, Н. А. Чалдымов), нынешний капитализм уже тоталитарен в силу морализаторства, в котором нет места никакой иной морали, кроме морали денег [4; 26; 27], холодной рациональной выгоды (прагмы), жестокой расчётливости и снайперского безразличия к «иному», «другому» во имя себя самого. Противоречия российской социокультурной ситуации требуют, исходя из российской тенденции «начинать с верха», трансформации менталитета элиты. Не беда, что она или почвенническая, или западническая. Беда в том, если она антипатриотична, если она духом и душой ушла из Отечества, и глубоко чужда ему, если она слышит только себя.
Особенно это присуще нашей некоторой журналистской, писательской и верхушечноолигархической общинам. Все эти «аристократы духа» и господа из «Дождя», «Эха», из «Камеди Клаб», из «Собеседника», «Нового времени», «Акционисты» и т.п. ведут речь о своей стране не с состраданием и болью за её болячки и негативы, а с отвращением сноба. А между тем смысл слов «аристократы духа», «интеллектуальная элита» — это лучшая, привилегированная часть класса или социальной группы, которая вырабатывает и сохраняет фундаментальные ценности, задавая стратегию культуротворчества, обеспечивая бесперебойную работу «механизма» культуры, возвышение человеческого существа до величины гуманистических знаний (А. Швейцер): человеческий род; человеческое достоинство; человеколюбие; гуманность; доброта; обходительность; образованность; духовная возвышенность; утончённый вкус; тонкость общения; изящество манер; изысканность речи; учтивость, тактичность, предупредительность; воспитанность [3, с. 40—41].
Увы, характерный пример… Газета «Куль-тура»1 сообщает устами режиссёра В. Хотиненко, что телевидение отказывается пока- зывать его картину о Сергии Радонежском. Она-де «покажется обидой». Почему? А потому что неудобна, чужеродна. Да, образ Сергия Радонежского ставит диагноз обществу. «Продвинутые господа» или «смиренники» из народа неспособны публично исповедаться, усовеститься, а потом уже судить. Преподобный им не нужен. Политолог, учёный-гуманитарий, журналист спешат расписаться в лояльности к схематичному образу исторического деятеля — приватизировать святость и немедленно употребить её на текущие нужды… Получается какое-то безобразное, кощунственное камлание, а не впитывание в себя духовного Пастыря Отечества. Отсюда понятен и отказ от демонстрации ленты. История развития мировой культуры делает очевидным вывод: интеллектуальная элита есть необходимое условие существования, воспроизводства и устойчивости культуры. И если в культуре отсутствуют в достаточной мере те, кто не просто декларирует, а создаёт и задаёт нормы «высокого», воплощая интеллектуальные, моральные и в целом жизненные свойства нации, формируя образцы для совершенствования, то неизбежен режим «самосъедания» и «самопере-варивания» культуры. Утрата этих образцов, равно как и способности к их оценке, что само по себе является трагедией, с неизбежностью обрекает культуру на потакание «низменным инстинктам толпы» и, в итоге, на деградацию. Вот и ходят пока по нашим улицам толпы матерщинников, вызывающе курящих женщин, юнцов, распивающих спиртные напитки, отцов и матерей, отказывающихся от своих детей, сынов и дочерей, забывших своих родителей. Невесёлая картина. Но ведь так и есть. Хорошо, что формируется и противоположное этому разложению. Угадывается, что в регионах «схватились». Стали вплотную заниматься молодёжью. Вот уже и всероссийское движение школьников организовывается в стране. Дай-то Бог! Ведь совершенно верно произнёс С. Михалков: «Сегодня — дети, завтра — народ!».
Здесь очевидно и другое. Логика бытия цивилизационного процесса всегда протекает в единстве с эмпирической историей (войны, конфликты, социальные ресурсы, инженернопромышленные преобразования, коммуникативные мимикрии, различные локальные события и т.д.). Мы, конечно, живём в двух историях: в эпохально-духовной, антропологической и в конкретной — цивилизованной, общественно-политической (И. П. Смирнов) [20, с. 33.]. Социокультура антиномична не только как история, но и как смысл, как побуждение к созданию вечных ценностей (которые не освобождают, увы, нас как таковых от исчезновения). В терминах семиотики социокультура поддаётся рассмотрению в трёх аспектах: семантическом, прагматическом и синтаксическом. Являясь, однако, не просто совокупностью знаков, указывающих на реалии, но «Другим» бытия, метафизичная по своему существу, социокультура делает каждый из указанных параметров зоной конфликта: между смыслом и значением; между спасением плоти и её «заместителями» — текстами; между переходами от одной эпохи к следующей и т.д.
Данные противоречия выступают своеобразными внутренними «движениями» цивилизационных «ходов», наряду с механизмом логоистории, который также структурирован системой противоречий: с одной стороны, наша эпоха — это эпоха постиндустриального, информационного (Э. Тоффлер) общества; это эпоха человека “Homo electronic”, эпоха постмодернизма (дискурс, текст, гипертекст, ризома, симулякр), это эпоха господства социальных сетей. Однако, с другой стороны, наша эпоха одновременно является пространством «бездумных потребителей», эпохой поколения «NEXT», эпохой массовых зрелищ, эпохой глобализированных обществ и личностей (Г. Маркузе — «одномерный человек»), эпохой толпы (С. Московичи). Противоречивость данных систем выдвигает на первый план духовную составляющую, концентрирующуюся в мировоззрении. Именно поэтому в культурологическом поле активно разрабатываются идеи о «коде куль- туры», о «культурной матрице сознания», о «культурном контексте», в которых, по мысли В. С. Библера, М. М. Бахтина, проявляется «сама сущность» общественного бытия [1, с. 137].
Главное здесь — вера в бесконечный рост и непрекращающееся производство денег.
Однако чем же определено сегодняшнее цивилизационное движение России в мировоззренческом плане? Из уст Президента России прозвучала формула «прогрессивный консерватизм». Другими словами, всё, что служит обеспечению прогресса, подлежит охране, сохранению и функциональной опоре. Но в научной и политической среде живо обсуждается вопрос об «идентичности» России, россиян. Причём одни учёные идентичности придают смысл устойчивости цивилизационного развития, а другие, наоборот, связывают идентичность как процесс — с застоем, с упадком (А. Я. Флиер). При этом идентичность исследователи ассоциируют с сакральной приверженностью к определённым смыслам, традициям, верованиям, религиям, идеалам, представлениям [13, с. 309—313]. Отметим ещё одну линию противопоставления: традиционность (идентичность) и модернизация (развитие). Искусственное доведение данного противоречия до крайних форм, по мысли того же С. Хатингтона, объявляется неотвратимым фактором терроризма [8]. В поисках возможностей разрешения данного противоречия современные аналитики предлагают различные сценарии. Можно выделить утверждение западноевропейцев, что назрела необходимость «целенаправленного преодоления» традиционных людей социокультурной (цивилизационной) динамики. Западническая позиция сводится к возможности «приобщения» народов к своей цивилизации, к европеизации или американизации в версии «глобализации» [5, с. 40], ибо единственный-де адрес позитивных перемен — Запад [9]. Думается, можно оставить без комментариев последнюю точку зрения, как гипертрофированную крайность или расистскую генетическую модель господства «белой расы». А вот в отношении суждения уважаемого А. Я. Флиера можно высказать особое мнение. Оно связано с тем, что цивилизационный процесс двойственен по своей сути. В нём один пласт (основа) — культура — как духовная деятельность и её результаты, а другой — социум. Примеры Японии, Китая, да и России показывают, что традиционность культурных основ может не контрировать социокультуре, технико-технологическому процессу.
Вместе с тем Андрей Яковлевич Флиер и сам в качестве условия цивилизационного развития выдвигает «необходимость» форм культурной самобытности. Далее он поясняет, что на постиндустриальной стадии развития получает приоритет свобода культурного самовыражения человека. С этим вполне можно согласиться. Думается, что автор здесь не в полной мере соответствует своему же постулату, согласно которому, «когда динамика развития общества ускоряется, понижается уровень его культурной самобытности (культурной идентичности — Р. В. ); при замедлении темпа социального развития возрастает культурная специфичность» [24, с. 30—32.]. Другими словами, данное явление не абсолютное, а относительное.
Таким образом, цивилизационные процессы структурно дифференцированы. В их трендах и трансформациях играют свою роль и бифуркации, и социальные обусловленности. Однако они значительно связаны с генетико-антропологическими детерминантами, которые в России проявляются сложно, во взаимосвязи с внутренними и внешними факторами, видеть и учитывать которые необходимо. В силу этого очевидно, что есть все основания утверждать, что Россия цивили-зационно специфична. Она не принадлежит к базовому западному цивилизационному универсуму: картезианскому рационализму; протестантской этике мотивации труда и потребления; восприятию собственности как альфы и омеги жизненного мира. Не внушали ей особого пиетета и либеральные ценности. Свобода при этом всегда мыслилась не только «от» чего-либо, сколько «для», подлежа суду преимущественно не закона, но этических канонов [6]. Россия — иная европейская цивилизация (евразийская), в которой не отказываются от традиционных ценностей, от культурных корней, а их поддерживают и сохраняют, удерживая свою идентичность. Это не тормозит её устремления к научному, техническому и технологическому развитию. Это не противоречит развитию национальных форм демократии и государственности. Универсалистские ориентации, господствующие в общественном сознании, этатизм, привычный для многих поколений россиян образ страны как великого государства — всё это формирует «великодержавность» сознания. Солидарность, вера, органическая целостность мироощущения и мировоззрения насыщают духовно россиян. Гордость за державу, отстаивающую свои позиции на мировой арене, восстанавливающую свои исторические границы, патриотизм и устремлённость к обновлению — это характеризует российскую цивилизационную модель.
Список литературы Социокультурные цивилизационные процессы в России: генетико-антропологический анализ
- Библер В.С. От наукоучения -к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. Москва: Политиздат, 1991. 413. с.
- Вригт Г.Х. фон Модернизация как псевдоморфоз//Три мыслителя = Three thinkers: Three thinkers: /. Санкт-Петербург: Рус.-Балт. информ. центр Блиц, 2000. 255 с.
- Голик Н.В. Просвещение как феномен культуры//Альманах Научно-образовательного культурологического общества России «Мир культуры и культурология». Вып. IV. Материалы III Санкт-Петербургского международного культурного форума -2014. Санкт-Петербург: РГПУ имени А.И. Герцена, 2014. С. 6-21.
- Жижек С. Культурный капитализм//13 опытов о Ленине/. Москва: Ad Marginem, 2003. 254 с.
- Ирхен И.И. Региональное образование в сфере культуры и искусства в глобализирующейся России. Москва: МГУКИ, 2012.