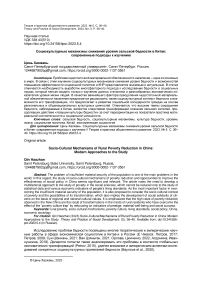Социокультурные механизмы снижения уровня сельской бедности в Китае: современные подходы к изучению
Автор: Цинь Хаожань
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 5, 2023 года.
Бесплатный доступ
Проблема недостаточной материальной обеспеченности населения - одна из основных в мире. В связи с этим изучение социокультурных механизмов снижения уровня бедности и возможностей повышения эффективности социальной политики в КНР представляется значимым и актуальным. В статье отмечается необходимость выработки многофакторного подхода к исследованию бедности в социальных науках, который нельзя сводить только к изучению данных статистики и разнообразных экономических показателей уровня жизни людей. В качестве важнейшего фактора преодоления недостаточной материальной обеспеченности населения предлагается рассмотреть также социокультурный контекст бедности и возможности его трансформации, что предполагает и развитие социальной солидарности граждан на основе региональных и общенациональных культурных ценностей. Отмечается, что высокие темпы сокращения бедности, наблюдаемые в Китае, являются следствием трансформаций сознания сельских жителей, преодолевших действие «ловушки культуры бедности» за счет переориентации на показатели престижа материальной состоятельности и социальной успешности.
Сельская бедность, социокультурные механизмы, культура бедности, уровень жизни, социальная политика, китай, экономическая социология
Короткий адрес: https://sciup.org/149142974
IDR: 149142974 | УДК: 338.43(510) | DOI: 10.24158/tipor.2023.5.4
Текст научной статьи Социокультурные механизмы снижения уровня сельской бедности в Китае: современные подходы к изучению
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, ,
,
Традиционные неоклассические, либеральные теории предполагают, что бедность, как правило, не существует сама по себе, а возникает только тогда, когда люди не прилагают усилий для достижения цели повышения своего собственного благосостояния, что известно в науке как «до-стижительная модель» поведения (Solow, 1956). При этом и экономическая конкуренция, и либеральная система организации социума считаются необходимыми условиями для снижения уровня (или устранения) дифференциации между гражданами одной страны на основе материальной обеспеченности (Sindzingre, 2007). Но почему некоторые страны могут создать условия для экономического роста в условиях свободного рынка и демократической политической системы, а другие – нет? И существует ли в одной и той же стране группа людей, которые при любых социальных обстоятельствах и экономических изменениях остаются бедными? В попытках найти ответы на эти вопросы экономисты разработали теорию «ловушки бедности», которая является модификацией модели индивидуально-достижительного поведения (Sindzingre, 2007). С.Л. Энгерман и К.Л. Соколов (Engerman, Sokoloff, 2005) и его коллеги разработали так называемую «ловушку институциональной бедности» (institutional poverty trap) на основе сравнения латино- и североамериканской моделей развития социальной политики, которая проявляется неравенством в образовании, собственности, земельных системах и системах организации общественных отношений.
В то же время эмпирические исследования показывают, что во многих случаях свободная рыночная конкуренция вовсе не позволяет повысить уровень благосостояния представителям разных социальных групп. В результате экономические социологи разработали теорию «ловушки культурной бедности» (cultural poverty trap) (Lewis, 1975), в рамках которой они утверждают, что в отсталых странах есть социальные группы и отдельные лица, которые являются носителями так называемой «культуры бедности», которая препятствует повышению уровня их благосостояния.
В рамках теории «ловушки культурной бедности» объясняются причины возникновения и сохранения этого негативного социального явления, а также предлагаются меры по его преодолению преимущественно при помощи «эффекта соседства» (neigborhood effect) между членами социальных сетей. Предполагается, что сообщества людей с низким уровнем жизни в целом имеют тенденцию передавать культуру бедности от одного поколения к другому и что, как только такое сообщество становится бедным в целом, в нем трудно найти людей, стремящихся к повышению своего благосостояния из-за «эффекта соседства» как агрессивного сдерживающего фактора.
Хотя теории «ловушки бедности» идут дальше, создавая «модель достижений» для оценки сложности динамики бедности и определения возможностей ее снижения, они все же не отвечают объективной реальности, которая заключается в том, что с 1980-х гг. развивающиеся страны в целом устранили ограничения для экономического роста, но в снижении бедности добились разных результатов. Этот механизм существенно отличался от модели «ограничения стремления вперёд», которая отражала логику западной неолиберальной модели индивидуального повышения благосостояния.
Основная точка, в которой социология или антропология занимается социальными явлениями, – это построение общества (Green, 2009). В случае с бедностью изучение социального конструирования в основном сосредоточено на трех аспектах – отношениях, правилах и производстве социального смысла. В свою очередь они отражаются соответственно социологически или антропологически в трех измерениях социальных сетей, исключения и культуры (Woolcock, 2009).
Политика реформ и открытости Китая устранила многие ограничения для экономического развития и дала мощный импульс для ликвидации бедности. Теоретическая предпосылка данного исследования заключается в том, что существует уникальный китайский социокультурный механизм, который позволил Китаю добиться масштабного сокращения бедности за четыре десятилетия развития. В основе этого механизма лежит тот факт, что политические практики государства и культурные практики личности встроены в конструирование социальных отношений, поэтому сокращение бедности – это восстановление значения малообеспеченных граждан для построения гармоничных общественных отношений.
С нашей точки зрения, изучение обозначенного вопроса невозможно лишь статистически, поскольку «сухие цифры» не отражают реальных процессов, происходящих в обществе, а лишь констатируют их результат. В этой связи, на наш взгляд, целесообразно обратиться к социокультурному контексту бедности и представить многофакторную картину ее сохранения или преодоления.
Были проведены многочисленные исследования роли семьи, родственных связей и геосетей в рамках сельской индустриализации в Китае. В целом они подтверждают роль микросообществ в сельских районах КНР для обеспечения сплоченности трудовых коллективов, мобилизации капитала и развития рынка (Knight, Yueh, 2008). Эмпирическое исследование, проведенное Чжан Шуан и др. (2007), показало, что социальные сети и общественное доверие значительно снижают уровень бедности. Социологи также отмечают, что китайцы не выступают за личную конкурентную борьбу, а считают, что личный успех неотделим от семьи и родного поселка, поэтому успешные люди также должны делиться своей удачей и благосостоянием с близкими и родными (Чжай Сюэвэй, 2011). Концепция культуры КНР не является монолитной, но в общих чертах китайское сельское сообщество представляет собой систему сетей, основанных на схеме «концентрической градации степени родства», с семейными, кровными и местными связями. Она полна социальных практик, которые вращаются вокруг различных отношений. Когда человек в деревне становится материально обеспеченным, родственники и друзья часто пытаются «получить выгоду» от него, а некоторые испытывают зависть (Чжан Хуэй, 2016). Сторонники существования «ловушки культуры бедности» склонны рассматривать такое поведение как типичное для реализации стратегии торможения «стремления вперед», поскольку оно влияет на способность состоятельных людей исключить непотизм и, таким образом, эффективно управлять своим бизнесом, а также накапливать капитал. С точки зрения китайской социальной практики, этот социальный и культурный феномен действительно широко распространен в сельском и даже городском Китае. Если такие социальные практики не будут искоренены, сообщества людей с низкими доходами надолго останутся в ловушке бедности. В задачи данной статьи не входит опровержение теории «ловушки культурной бедности». Однако очевидно, что она не может адекватно объяснить, как сельская беднота в Китае смогла быстро интегрироваться в рынок и воспользоваться возможностями политики реформ и открытости для преодоления материальной ограниченности.
Рассмотрим причины этого явления более детально.
Во-первых, основными понятиями китайской культуры являются «гуаньси», человеческие чувства (отношения) и престиж. В соответствии с ними в сельском Китае богатство и почести делятся внутри семьи и общины в качестве подарков преуспевшего человека тем, кто его поддерживал на пути к достижению благополучия. Поскольку китайцы ориентированы не на личность, а на семью-государство, разделение богатства считается не односторонним актом, а воспроизведением социального значения успешных.
Во-вторых, такое вознаграждение часто дает стимул для дальнейшего развития успешного человека через социальную практику обретения «престижа». Такое поведение, которое на практическом уровне является актом уменьшения богатства, с одной стороны, может быть вызвано желанием получения психологического удовлетворения от раздачи подарков, но само по себе оно также стимулирует увеличение стремления к предпринимательству внутри самого успешного человека. С другой стороны, это действие воплощает инструментальный обмен между индивидом и сообществом, представляясь потенциально выгодной социальной практикой. Данный механизм существенно отличается от логики функционирования западной модели «торможения стремления вперёд».
Наконец, наше понимание отношений в сельском микросоциуме, возникающих на основе родственных и территориальных связей, как правило, больше сосредоточено на их структуре и не учитывает социальные функции такого объединения граждан. Одна из причин этого заключается в том, что китайское общество существует в системе ценностей, в которой нравственность ценится выше прибыли (Чжай Сюэвэй, 2007).
Кроме того, влияние идеологии на культуру сельских социальных групп было огромным. После основания Нового Китая государственные силы не стали напрямую приобщать жителей провинций к рыночной экономике, но благодаря различным политическим движениям и всесторонней популяризации образования и науки идеология современности проникла в каждый уголок сельской местности. В социальных отношениях произошли многочисленные изменения. Постепенная их инструментальная рационализация, основанная на эмоциональном подтексте, привела к повышению значимости заинтересованности сельских граждан в социальном взаимодействии и распространении опыта успешности преодоления материальной недостаточности за счет саморазвития. Другими словами, китайские сельские социальные отношения могут казаться прежними, но функционируют они уже по законам современности.
Следует также сказать и о том, что традиционный тип общественного взаимодействия на селе отражает принцип реализации экономических отношений в рамках системы мелкого крестьянского земледелия, а не только родственно-территориальных связей. Очевидно, что это позволило преобразовать сеть социальных отношений в китайской деревне на рыночных основах. В то же время процесс реализации данной социальной практики сам по себе является итогом воспроизводства социального смысла. Указанные обстоятельства спровоцировали рост значимости престижа в сельской местности, определяя для индивидов и общества стратегии перспективных достижений, которые материализуются в виде богатства, власти, повышения социального статуса.
Согласно идее «ловушки культуры бедности», основная проблема многих сообществ с хронической недостаточностью материальных средств заключается в том, что как только человек пытается выйти из культурного круга себе подобных, доминирующая культура бедности в сообществе быстро противодействует его порыву с помощью социальных практик в виде сплетен, слухов, насмешек и т.д. В случае Китая, не только в сельской местности, но даже в городе, личное значение каждого человека также представлено в контексте семейных, местных и национальных связей, однако обладание богатством, чиновничество и учеба были социально переоценены и стали коннотациями понятия «престиж», изменяя общепринятые ценности и социальные смыслы в жизни людей провинции. Поэтому многие из них, достигнув определенного материального уровня, возвращаются в родные места, чтобы раздать деньги родственникам, построить дороги и дома. Производство и воспроизводство личных социальных смыслов, таких как «жить, чтобы сохранить престиж» и «жить не только для себя», составляют основной культурный механизм рассеивания стратегии «торможения стремления вперёд».
В заключение подтвердим наши умозаключения статистикой. В соответствии с доходом на человека на уровне 2 300 юаней в 2011 г. и целью «две заботы, три гарантии» численность бедного населения в Китае сократилась с 98,99 млн человек в конце 2012 г. до 30,46 млн человек в 2017 г., что в среднем составляет 13,7 млн человек в год1. Такие выдающиеся показатели в сокращении бедности также являются результатом действия социальных и культурных механизмов в контексте национальной и социальной сплоченности граждан КНР.
Список литературы Социокультурные механизмы снижения уровня сельской бедности в Китае: современные подходы к изучению
- Алдонина Л.А., Ивахнушкина А.И. Проблема бедности в Китае // Вестник современных исследований. 2018. № 11.8 (26). С. 164-166.
- Ван Цзяньган. Борьба с бедностью в Китае: опыт и перспективы // Социология. 2021. № 4. С. 156-164.
- Е Чжаося, Петров А.В. Экономическая социология в Китае // Общество. Среда. Развитие. 2017. № 1. С. 33-38.
- Орлова И.С., Цинченко Г.М. Победа Китая над бедностью: миф или реальность? // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2022. Т. 16, № 3 (41). С. 66-74. https://doi.org/10.22394/2073-2929-2022-03-66-74.
- Петров А.В. Экономическая глобализация и геосоциальная дифференциация: проблемы бедности // Общество. Среда. Развитие. 2009. № 2. С. 79-85.
- Сун Шэннань. Стратегия Китая по борьбе с бедностью и ее глобальное значение // Вестник Забайкальского государственного университета. 2021. Т. 27, № 7. С. 87-93. https://doi.org/10.21209/2227-9245-2021-27-7-87-93.
- Wang Jiangang (2021) Fighting Poverty in China: Experience and Prospects. Sotsiologiya. (4), 156-164. (In Russian). Woolcock, M. (2009) 15 Toward an Economic Sociology of Chronic Poverty. In: Poverty Dynamics. Oxford, рр. 328-348. Available from: doi:10.1093/acprof:oso/9780199557547.003.0015.
- Zhai Xuewei (2011) [Relationships and Power: The Path from Community to Country - How to Understand Traditional Chinese Language and the General Outlines of Chinese Society]. [Research in the Field of Social Sciences]. (1), 85-94. (In Chinese) Zhang Hui (2016) [Envy, Jealousy, and Hate: Anthropological Study of the View of Wealth]. Beijing. 125 p. (In Chinese) Zhang Shuang, Lu Ming & Zhong Yuan (2007). [Is the Role of Social Capital in the Process of Marketization Weakening or Strengthening? Empirical Study of Rural Poverty in China]. [Economics]. (2), 539-560. (In Chinese)
- Zhao Xuewei (2007) [Multiple Positions and Theoretical Reconstruction of Relationship Research]. [Jiangsu Social Sciences]. (3), 19-43 (In Chinese)
- Чжай Сюэвэй. Взаимоотношения и власть: путь от сообщества к стране - как понять традиционный китайский язык и общие очертания китайского общества // Исследование в области социальных наук. 2011. № 1. C. 85-94. (на кит. яз.)
- Baynova M.S., Shasha I., Kozyrev M.S., Petrov A.V., Sulyagina Ju.O. The Dynamics of Suicides as an Indicator of the SocioEconomic Problems of the Modern Village of China // Revista Inclusiones. 2020. Vol. 7, iss. 2. P. 331-344.
- Bowles S., Durlauf S.N., Hoff K. Introduction // Poverty Traps. Princeton, 2006. Р. 30-31.
- Engerman S. L., Sokoloff K. L. Institutional and Non-Institutional Explanations of Economic Differences // Handbook of New Institutional Economics. Boston, 2005. Р. 639-665. https://doi.org/10.1007/0-387-25092-1_26.
- Green M. Social Distribution of Sanctioned Harm // Poverty Dynamics: Interdisciplinary Perspectives. Oxford, 2009. Р. 309-327. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199557547.003.0014.
- Knight J., Yueh L. The Role of Social Capital in the Labor Market in China // Economics of Transition. 2008. Vol. 16, iss. 3. P. 389-414. https://doi.org/10.1111/j.1468-0351.2008.00329.x.
- Lewis O. Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty. L., 1975. 368 р.
- Petrov A.V. New Horizons for Learning and Teaching Economic Sociology in the Modern Higher Education: Theoretical Aspects // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6, iss. 6 S5. P. 24-29. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s5p24.
- Sindzingre A.N. Poverty Traps: A Perspective from Development Economics. Economix Document de Travail Working Paper No. 2007-26. P., 2007. 40 р. https://doi.org/10.2139/ssrn.1024988.
- Solow R. A Contribution to the Theory of E1conomic Growth // Quarterly Journal of Economics. 1956. Vol. 70, iss. 1. P. 65-94. https://doi.org/10.2307/1884513.
- Woolcock M. 15 Toward an Economic Sociology of Chronic Poverty // Poverty Dynamics. Oxford, 2009. Р. 328-348. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199557547.003.0015.