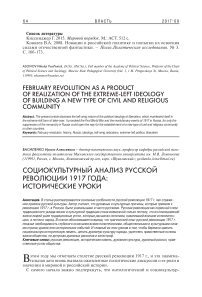Социокультурный анализ русской революции 1917 года: исторические уроки
Автор: Василенко Ирина Алексеевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Великая русская революция
Статья в выпуске: 9, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные особенности русской революции 1917 г. как отражение кризиса русской культуры. Автор считает, что духовные и культурные причины, которые привели к революции 1917 г. в России, были уникальными и чисто русскими. Русская революция как коренной слом традиционного уклада жизни и культурной традиции стала возможна только потому, что из повседневной жизни людей ушли традиционные устои, которые расшатал нигилизм, охвативший вначале интеллигенцию, а потом и народ. В статье обосновывается вывод, что трагический опыт русской революции 1917 г. показал необходимость глубокого осознания всеми политическими, общественными и культурными силами страны уроков этих исторических событий. И главный из этих уроков в том, чтобы бережно хранить национальную историческую память, ценить духовную культуру народа, укреплять нравственные основы жизни общества, не допуская духовных расколов и катастроф.
Русская революция, историческая память, духовная культура, духовный раскол, нравственные устои общества
Короткий адрес: https://sciup.org/170168923
IDR: 170168923
Текст научной статьи Социокультурный анализ русской революции 1917 года: исторические уроки
В этом году мы отмечаем столетие русской революции 1917 г., и эта знаменательная дата вновь вызвала оживленные политические дискуссии о ее роли и значении в мировой и российской истории.
С самого начала важно подчеркнуть, что онтологический и социокультур- ный смысл русской революции 1917 г. был проникнут глубоким пессимизмом. Возможно, Николай Бердяев сформулировал главное онтологическое и культурное противоречие этой революции: в ней происходит суд над злыми силами, но судящие силы сами творят зло; в революции и добро осуществляется силами зла, т.к. добрые силы были бессильны реализовать свое добро в истории [Бердяев 1990: 108]. Революция как коренной слом традиционного уклада жизни и культурной традиции стала возможной только потому, что из повседневной жизни людей ушли традиционные устои; их расшатал нигилизм, который захватил вначале интеллигенцию, а потом и остальной народ. Несмотря на успехи науки и промышленности, хозяйственный подъем России в начале ХХ в., в этих внешних достижениях скрывался глубокий духовный и культурный кризис русского общества: распад духовной и нравственной традиции.
О симптомах этого духовного кризиса в начале ХХ в. писали все великие русские философы и писатели того времени: С. Франк и Н.Бердяев, И. Ильин и С. Булгаков, Л. Толстой и Ф. Достоевский. Современники русской революции, они хорошо видели, как накануне революции в среде русской интеллигенции произошел глубокий нравственный надлом: она колеблется между невольной и нарочитой слепотой. Одни упиваются просветительским скептицизмом, другие – богоненавистничеством, третьи принимают эту духовную пустоту за руководящую идею и планируют революцию. Как отмечал И. Ильин, русская революция начинает с неверия и заканчивает преступностью и хаосом [Ильин 1997: 405].
К сожалению, русской интеллигенции в революции 1917 г. принадлежала трагическая роль той разрушительной культурной силы, которая в борьбе с догматизмом старых основ отвергла и реальные основы истории, заменив их отвлеченной пустотой начал безгосударственности, безрелигиозности и интернационализма [Новгородцев 1990: 280]. И эти нигилистические, анархические и богоборческие настроения постепенно проникают в гущу народных масс, становятся общественными настроениями, а потом, в условиях революции, – реальной движущей силой истории.
Ф. Достоевский в своих «Дневниках писателя» очень ярко описывал общий духовный кризис предреволюционного общества: «Что-то носится в воздухе полное материализма и скептицизма; началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно, убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана» [Достоевский 2012: 132]. Наверное, наиболее образно и глубоко он раскрыл этот духовный надрыв русской интеллигенции накануне революции в своем пророческом романе «Бесы». На примере героев романа мы видим, как принцип вседозволенности («Если Бога нет, значит, все позволено!»), который исповедовало революционное подполье в России, ведет к полной аморальности и беспринципности в политике.
Действительно, в процессе русской революции совершается огромный социальный и культурный переворот: она низвергает господствующие классы и поднимает народные слои, раньше угнетенные и униженные. С одной стороны, в русском народе обнаружилась огромная витальная сила, но при этом, естественно, произошло понижение уровня культуры, ибо высокая культура всегда создается путем длительного отбора. Как горько подчеркнул Н. Бердяев, «большевики пришли к господству в революции уродливо, с уродливым выражением лица, с уродливыми жестами. Это определилось не только тем, что они не принадлежали к тому слою, в котором выработалась культурная форма и манеры, более соответствующие понятию о прекрасном, но и тем, что у них было много ненависти, мстительности, rеssеntimеnt, которые всегда уродливы, у них не было еще никакого стиля, не произошло еще оформления. В революциях всегда есть уродливая сторона» [Бердяев 1990: 112].
К сожалению, стиль русского коммунизма и русской революции во многом определился в условиях жестокости и ненависти периода Первой мировой войны. Эта война впервые в человеческой истории породила неслыханные массовые жертвы и страдание, невиданное прежде море крови и слез, благодаря использованию новых средств вооружения. Человеческая жизнь страшно обесценилась, и эта незащищенность личности перед лицом грубой силы была свидетельством невиданной прежде дегуманизации культуры.
Русские по характеру своему склонны к максимализму, и максималистский характер русской революции – ее яркая черта. Именно атмосфера войны создала в русской революции особый тип победоносного большевизма и переродила тип и культуру русской интеллигенции. Методы и стиль войны во многом были перенесены внутрь страны. Как отмечали современники, появился новый культурный тип милитаризованного молодого человека, который имел образ завоевателя, не стесняется в средствах и всегда готов к насилию, одержим волей к власти и могуществу [Бердяев 1990: 113]. Именно этот тип большевика-завоевателя был готов совершить и совершил революцию: ведь революции не совершаются мечтательными интеллигентами.
Во время Первой мировой войны Россия столкнулась со всеми ужасами, сопутствующими поражению разлагающейся многомиллионной армии. В условиях всеобщего хаоса и анархии пришедшее к власти после Февральского переворота либерально-демократическое правительство начинает провозглашать отвлеченные гуманные принципы, которые не понимали и не могли понять революционные массы народа. Либерал Керенский с его гуманными принципами совсем не подходил для революционной эпохи. Временное правительство стремилось «из благородного чувства» продолжать войну до победного конца, в то время как солдаты готовы были бежать с фронта.
Основная причина падения Временного правительства и государственного разгрома была в том, что интеллигенция совершенно не понимала ни природы русского человека, ни движущих им мотивов. Перед революцией интеллигенция пользовалась народом как орудием борьбы с самодержавием. Но когда в условиях войны русская монархия рухнула, интеллигенция вынуждена была немедленно из оппозиции перестроиться в органы власти. И здесь ее постигло настоящее банкротство: «Все главные политические, социально-экономические и психологические идеи, в которых столетие воспитывалась русская интеллигенция, оказались ложными и гибельными для народа. В роли критиков выступили не те или иные литераторы, а сама жизнь. Нет высшего авторитета. На критику жизни нет апелляции. Большевики и их господство и воплотили в себе всю эту критику жизни. Напрасно интеллигенция пытается спасти себя отводом, будто она не отвечает за большевиков. Нет, она отвечает за все их действия и мысли. Большевики лишь последовательно осуществили все то, что говорили и к чему толкали другие. Они лишь поставили точки над i, раскрыли скобки, вывели все следствия из посылок, более или менее красноречиво установленных другими» [Изгоев 1990: 41].
Оказалось, что только диктатура могла остановить процесс окончательного разложения и торжества хаоса и анархии. И проект этой диктатуры был подготовлен и предложен большевиками во главе с В. Лениным. В условиях деморализации армии, всеобщего хаоса и анархии только большевики оказались способными справиться с ситуацией, взять ее под контроль и повести за собой народ. Ленин воспользовался бессилием либерально-демократической власти, непониманием и неприятием ее культурной и политической символики взбунтовавшимся народом. Как стратег и тактик революции он оказался на высоте: увидев откровенное нежелание солдат продолжать войну, он предложил им мир; осознав всю вековую глубину стремления крестьян к земле, он передал им землю. За ним пошли массы, и он вместо культуры никому не понятной в России демократии, воспользовавшись русскими традициями векового монархического правления, предложил большевистскую диктатуру, гораздо более похожую на монархию.
В условиях жестокости и страданий Первой мировой войны жестокости новой диктатуры не показались народу чрезмерными: народ никогда не знал свободы и не стремился за нее бороться. Архетип перехода в русской культуре от одной целостной веры к другой, к другой ортодоксии, охватывающей всю жизнь, оказался чрезвычайно сильным.
Как отмечал Н. Бердяев, Россия перешла от старого средневековья, минуя пути новой истории с их секуляризацией, дифференциацией разных областей культуры, с их либерализмом и индивидуализмом, с торжеством буржуазии и капиталистического хозяйства, к новому средневековью: «Пало старое священное русское царство и образовалось новое, тоже священное царство, обратная теократия. Произошло удивительное превращение. Марксизм, столь не русского происхождения и не русского характера, приобретает русский стиль, стиль восточный, почти приближающийся к славянофильству» [Бердяев 1990: 216].
Так, русская культура воспринимает и преобразует марксизм в духе своих традиций. Но это было неслыханное падение великой русской культурной традиции, отброшенной назад, в новое средневековье, с культом беспрецедентной жестокости и насилия. Современник русской революции философ С. Франк горько заметил: «Даже в Смутное время разложение страны не было, кажется, столь всеобщим, потеря национально-государственной воли столь безнадежной, как в наши дни; и на ум приходят в качестве единственно подходящих примеров грозные, полные библейского ужаса мировые события внезапного разрушения великих древних царств. И ужас этого зрелища усугубляется еще тем, что это есть не убийство, а самоубийство великого народа, что тлетворный дух разложения, которым зачумлена целая страна, был добровольно, в диком, слепом восторге самоуничтожения, привит и всосан народным организмом» [Франк 1990: 121].
Но, с другой стороны, этот кризис культуры, обнаруживший все язвы и надрывы русского общества, парадоксальным образом тем самым в исторической перспективе послужит и добру. Тяжело «переболев» революцией, общество и культура способны освободиться от своих надрывов и язв. В этом проявляется двойственный характер русской революции: с одной стороны, она наиболее полно обнажает зло, с другой – косвенно указывает обществу путь освобождения от него. Другими словами, в революциях, как в грозе, культура способна очищаться и просветляться. Как пророчески писал С. Аскольдов, взрывы злых сил в процессе революции являются провозвестниками новых духовных подъемов и, быть может, даже преображений [Аскольдов 1990: 12].
Однако потребовалось целое столетие, чтобы наше общество и наша культура снова сумели восстановить, возвысить величайшие традиции гуманизма, которые на протяжение многих веков культивировались в русской философии, литературе и искусстве. Потребовалось целое столетие, чтобы традиционные гуманные ценности русской культуры вновь оказались востребованными народом и властью в России. Мы, наконец, начали восстанавливать нашу историческую память, вспоминать подвиги наших героических предков, ценить соборность, единство и согласие в обществе.
От лица духовной власти в современной России патриарх Кирилл справедливо назвал русскую революцию «трагедией русского народа», вспоминая о нападках и репрессиях, которым подверглись верующие в России, о гонениях на русскую церковь, о разрушении храмов, о глумлении над святынями, об убийстве множества людей и заключении их на длительные сроки в тюрьмы и концентрацион- ные лагеря1. Однако главная трагедия России в революции 1917 г. заключалась в том, что, одурманенный сомнительными популистскими идеями, русский народ позволил оболгать национальную историческую память, надругаться над своей традицией, веками создававшейся усилиями предков, позволил разделить себя на враждующие лагеря и поставить политические и социальные различия выше национального единства и культурной общности.
Необычайно актуально сегодня звучат слова П. Новгородцева: «Каждый народ, образовавший из себя духовное целое, имеющий свою историю, свою культуру, свое призвание, носит в себе живую силу, которая сплачивает воедино его отдельных членов, которая из этих атомов, из этой пыли людской делает живой организм и вдыхает в него единую душу. Это – та великая сила духовного сцепления, которая образуется около святынь народных; это – сила того Божьего дела, которое осуществляет в своей истории народ… Лишь целительная сила, исходящая из святынь народной жизни и народной культуры, может снова сплотить воедино рассыпавшиеся части русской земли. Вот то общее дело, в котором интеллигенции и народу надлежит быть вместе и в котором самое противопоставление интеллигенции и народа должно исчезнуть или по крайней мере утратить свою остроту» [Новгородцев 1990: 281].
Несомненно, трагический опыт русской революции 1917 г. показал необходимость глубокого осознания всеми политическими, общественными и культурными силами страны уроков этих исторических событий. И главный из этих исторических и социокультурных уроков в том, чтобы бережно хранить национальную историческую память, ценить высокую духовную культуру народа, укреплять нравственные основы жизни общества, не допуская духовных расколов и катастроф.
Список литературы Социокультурный анализ русской революции 1917 года: исторические уроки
- Аскольдов С.А. 1990. Религиозный смысл русской революции. -Из глубины: сборник статей о русской революции. M.: Изд-во МГУ
- Бердяев Н.А. 1990. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизводство издания 1955 г. М.: Наука. 224 с
- Достоевский Ф.М. 2012. Дневник писателя. М.: Институт русской цивилизации. 880 с
- Изгоев А.С. 1990. Социализм, культура и большевизм. -Из глубины: сборник статей о русской революции. M.: Изд-во МГУ. 298 с
- Ильин И.А. 1997. Николай Ставрогин (Достоевский. «Бесы»). -Собрание сочинений. В 10 т. М. Т. 6
- Новгородцев П.И. 1990. О путях и задачах русской интеллигенции. -Из глубины. Сборник статей о русской революции. M.: Изд-во МГУ
- Франк С.Л. 1990. De Profundis. -Из глубины. Сборник статей о русской революции. M.: Изд-во МГУ