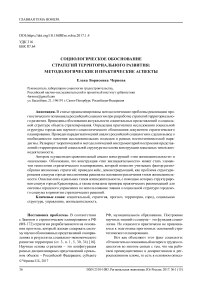Социологическое обоснование стратегий территориального развития: методологические и практические аспекты
Автор: Чернова Елена Борисовна
Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu
Рубрика: Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности
Статья в выпуске: 1 (15), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы методологические проблемы реализации прогностического потенциала российской социологии при разработке стратегий территориального развития. Приведены обоснования актуальности социетальных представлений о социальной структуре объекта стратегирования. Определена прагматика исследования социальной структуры города как научного социологического обоснования документов стратегического планирования. Проведен парадигматический анализ российской социологии и сделан вывод о необходимости освоения исследовательских подходов в рамках постпозитивистской парадигмы. Развернут теоретический и методологический инструментарий построения представлений о территориальной социальной структуре на основе конструкции идеальных типов жизнедеятельности. Автором осуществлен сравнительный анализ конструкций «тип жизнедеятельности» и «население». Обосновано, что конструкция «тип жизнедеятельности» может стать элементом технологии стратегического планирования, который позволит учитывать фактор разнообразия жизненных стратегий; приведен кейс, демонстрирующий, как проблема структурирования социума города-миллионника решена на основании различения типов жизнедеятельности. Описано пять идеальных типов жизнедеятельности, с помощью которых структурирован социум города Красноярска, а также показаны примеры практических рекомендаций для системы городского управления по использованию знания о социальной структуре городского социума в принятии стратегических решений.
Социетальный, стратегия, прогноз, территория, город, социальная структура, управление, жизнедеятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/149131165
IDR: 149131165 | УДК: 316 | DOI: 10.15688/re.volsu.2017.1.4
Текст научной статьи Социологическое обоснование стратегий территориального развития: методологические и практические аспекты
DOI:
Постановка проблемы. В соответствии с Законом о стратегическом планировании в РФ (ФЗ-172) стратегии разрабатываются на основании прогноза, который должен содержать систему научно обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития территории (ст. 3, п. 1, 5, 30, 34) [16]. Научная основа стратегии – это конфигурация разных дисциплинарных представлений о реальном объекте – Российской Федерации, субъекте © Чернова Е.Б., 2017
РФ, муниципальном образовании. Построение научных знаний о социуме – это функция социологии. Но социологи практически не привлекаются к подготовке прогнозных оснований стратегического планирования.
Вот как объясняют этот факт социологи: «Относительно пониженный интерес к трудам социологов во многом связан с тем, что мы работаем преимущественно в дескриптивном и ретроспективном ключе, то есть в основном описы- ваем и анализируем ранее свершившееся, а не предсказываем то, что случится завтра и послезавтра... Это ни плохо, ни хорошо, такова специфика дисциплины. Хуже другое: специалисты-практики, в каких бы сферах они не работали, как раз прошлым интересуются в наименьшей мере» [18, с. 31]. Однако классики социологии утверждали ее прогнозный характер. По О. Конту, социология – это рациональная основа деятельности «просвещенного правительства», новая философия, способствующая рождающейся науке о социальном развитии [10]. К. Манхейм прямо указывал на прогнозную функцию общественных наук, объектами которых должны быть «не застывшие в определенном образе данности, а текучие, находящиеся в процессе становления тенденции» [14, с. 99–100]. Таким образом, дескрип-тивность – это не специфика социологии. Это – забвение ее исходной программы.
Продуктивную версию того, как сделать социологию прогностической, можно найти в продолжении цитаты В.В. Радаева: «Социолог изучает социальные структуры, а последние – это устойчивые связи, воспроизводимые в течение определенного, относительно длительного времени... Если мы хотим теснее связать свои интересы с интересами практиков, нам придется учиться работать на предсказательном уровне. И не думаю, что подобные попытки обречены на неудачу. Если социальные структуры существуют сегодня, то с определенной (достаточно большой) вероятностью они будут существовать и завтра» [18, с. 31].
Итак, объект – социальная структура, исследование которой обеспечит востребованность прогнозного социологического знания, определен. Однако выработка необходимых практикам представлений является проблемой: «Любое общество структурировано. Но как наше – непонятно... Все живое проклассифицировано и поименовано и может быть однозначно определено. Названия видов, родов, семейств, вместе с их отличительными признаками, вошли в повседневность и во многом ее структурируют. Мы, благодаря классификационной практике предыдущих поколений систематиков, видим не летающих, пищащих, а птиц, ворон, галок. Однако классификация людей и социальной реальности в широком смысле пока находится на уровне долиннеевской биологии. В современных социальных науках отсутствует алгоритм, позволяющий иерархически упорядочить непосредственно наблюдаемые различия и сходства между людьми, существенные для этих наук» [11, с. 37].
Лозунг «город – это люди» и декларации, что система городского управления работает на благо людей, звучат часто. В повседневной работе городской администрации люди «даны» в виде конкретных индивидов или малой группы с их трудностями, которые необходимо здесь и сейчас облегчить. Но уровень стратегии предполагает рассмотрение долгосрочных проблем и закономерностей развития городского социума как целого. При попытке учесть потребности людей в масштабах всего города обнаруживается, что у разных людей и групп разные, зачастую взаимоисключающие интересы. По любой городской проблеме «общественное мнение» включает полярные предпочтения. Пешеходы и пользователи общественного транспорта будут за платные парковки, большинство автомобилистов – против.
Как управленцу примирить противоположные мнения? Сегодня стиль управленческих решений носит несбалансированный характер. Решения могут быть радикальными и приводить к дезадаптации каких-либо из социальных групп. Или, опасаясь сильной реакции, изменения внедряют в «экспериментальных» дозах, не приводящих к развитию ситуации. Тут и нужен социолог, способный построить знание о социальном «целом», в котором противоречия не сведены к среднестатистическим показателям, а синтезированы в представления более высокого порядка, позволяющие находить оптимум.
В социологии используется термин «социе-тальный» для указания на надэмпирический уровень рассмотрения общества как целого, его структуры и процессов [17]. Территориальный социум любого территориального административного образования является социетальным объектом. Иными словами, его невозможно увидеть непосредственно или «сложить» из многообразия эмпирических явлений. Требуются исходные концептуализации, позволяющие сквозь теоретическую призму осмыслить наблюдаемую эмпирику. Однако выход на этот уровень также является проблемой социологической науки. Вместо социетальных представлений о социальной структуре используются разные заменители.
Самой распространенной подменой социе-тальных представлений являются результаты соцопросов: «статус “существования” приписывается результатам статистической обработки первичной информации. Доказанное статистичес- ки существование служит основой для математического моделирования отношений существующего. Статистические группы (факторы, кластеры и пр.) повисают в предметном пространстве, заполненном спекулятивными сущностями. В результате – содержательно пустое, но многозначительное единство математических и философских спекуляций» [11, с. 40].
Ситуацию неспособности российской социологии соответствовать запросам управленческой практики проанализировал А.В. Тихонов, сделав вывод: российская социология не вышла из состояния «преднауки». Признаком ставшей науки является наличие специальной дисциплинарной реальности (физической, химической и т.д.), сквозь призму которой исследуются явления. В науке «непосредственного» наблюдения явлений быть не может. Наука исследует не природные, а научные объекты в границах своей дисциплинарной реальности. Но российские социологи продолжают исследовать «социум» как явления «социальной природы» или «социальной жизни», существующие вне рамок науки, непосредственно [19, с. 214].
На наш взгляд, состояние «преднауки» – это состояние позитивистской или постмодернистской стадий науки, которые не адекватны современной социальной реальности. В России (СССР) социология оказалась законсервированной на позитивистской стадии вследствие господства «ленинской теории отражения», которая представляет собой идеологическую редукцию позитивизма. Позитивистский идеал рациональности (есть субъект – исследователь и есть независимый, противостоящий ему объект) продолжает воспроизводиться в большинстве исследовательских программ.
Ряд социологов работает в рамках постмодернистской парадигмы. Постмодернизм в социологии характеризуется отказом от рационализации социума как целого, исследовательским локализмом и эмпиризмом [1]. Неспособность построить представления о социетальных объектах не оценивается как проблема, а просто констатируется: «Если мы за всю историю нашей дисциплины так и не смогли собрать город из людей и зданий, ресурсов и инфраструктуры, практик и функций, почему мы решили, что сможем собрать его из метафор и образов?» [5, с. 20]. Постмодернисты не претендуют на рационализацию социетального уровня, поэтому их деятельность не актуальна для стратегического планирования. Поиск выхода из состояния «преднау- ки» ведут только представители академической сферы. По их версии (А.В. Тихонов, В.А. Ядов и др.) «одной из продуктивных стратегий отечественной социологии может стать деятельностно-активистский подход, уже получивший фундаментальное теоретико-методологическое обоснование в работах А. Турена, М. Арчер, Дж. Александера, Э. Гидденса, П. Штомпки, П. Бурдье...» [19, с. 224]. Наше понимание более радикально и состоит в том, что необходима полная смена парадигмы и переход к исследованиям в рамках постпозитивизма, элементом которого является деятельностно-активистский подход Дж. Александера.
Представление о социальной структуре в рамках постпозитивистской парадигмы. Проанализируем, как в постпозитивизме строится представление о социальной структуре на примере концепции Н. Лумана. Исследователь считает, что современные проблемы обнаружения сходств и различий между людьми состоят в принципиальном отличии современного общества от традиционного: «В общественных формациях старого типа взаимозависимости были ограничены пределами общественных слоев и контролировались рамками семьи, социальным статусом и ролью. Социальный слой, к которому принадлежал человек, задавал перспективу его поведения, выходящую далеко за пределы какой бы то ни было функциональной спецификации. Этот ориентир определял и специфические для каждого слоя регулятивы поведения… Крайне высокие взаимозависимости современного общества уже невозможно нейтрализовать ни в рамках специфически сословных систем интерактивных контактов между членами сословия, ни вообще в рамках статуса и ролей» [13, с. 67–68].
Таким образом, Н. Луман выстраивает специфику современного общества на том, что его структура уже не определяется классовой, сословной или статусной принадлежностью индивидов. Именно это и придает обществу качество современности. Современное общество сосуществует с общественными формациями старого типа, в которых социальная структура продолжает определяться взаимозависимостью в рамках сословий, классов и пр. Социологи могут зафиксировать структуру традиционного общества, но сталкиваются с проблемой фиксации структуры общества современного, так как его представители сами не знают, как себя идентифицировать. Однако с позиции Н. Лумана, которая принципиально отличается от выше приведенной позиции
С. Кордонского, это не «аномия», а нормальное состояние общества, обладающего качеством современности. В свете такого различения следует критически отнестись к утверждениям о том, что постсоветское российское общество находится в стадии трансформации, что не позволяет зафиксировать его социальную структуру. «Процесс формирования классовой структуры, характерной для современных рыночных обществ, в современной России еще не завершен» [20, с. 355].
Такая констатация – это, во-первых, типично позитивистское высказывание, предполагающее, что «классы» существуют натурально, в независимой от исследователя реальности, а социолог только фиксирует эту реальность. Во-вторых, подразумевается, что через какое-то время трансформация закончится и социолог опять обнаружит в непосредственно наблюдаемой реальности социальную структуру, позволяющую любого индивида типизировать на основании его принадлежности к классу. Это противоречит качеству «современности», введенному Н. Луманом.
Если после трансформаций в России возникнет классовая структура, это будет означать только одно – российское общество деградировало к традиционной общественной формации прошлой эпохи. Поэтому сегодняшние проблемы определения социальной структуры – это показатель того, что общество обрело качество современности в «лумановском» смысле, для структурирования которого уже не годятся классовые различения.
Представление о классовой структуре общества, как и любая классификация, существует сначала как «класс на бумаге», как гипотеза: «Социальные группы, классы или нации начинают существовать как таковые для тех, кто в них входит, равно как и для остальных людей, только когда их, руководствуясь теми или иными принципами, воспринимают и признают, выделяя тем самым из множества социальных образований... Власть обозначать или называть… превращает простые множества людей… в институциональные, конституированные формы, создавая “корпоративную общность”» [5]. Поэтому не следует ждать окончания трансформаций, а нужно вырабатывать новые социологические представления, с помощью которых люди смогут ассоциировать себя с какой-то надэмпирической общностью.
«Социолог подходит к данным с набором теоретических представлений и пытается полу- чить набор пост-представлений – смыслов, “учреждающих” социальную реальность, которую социолог, интерпретируя данные, намерен объяснить и восстановить... Именно на самопонимании различий – “другие сторожа других овец в других долинах” – построена сама способность социологии объяснять» [2, с. 12]. Когда социолог находится внутри социального мира, где все уже различено, он может мысленно оперировать с вещами этого мира, устанавливать взаимосвязи и оставаться в плену кажущейся «непосредственности» наблюдаемых явлений.
Ярким образцом пребывания в таком мире самопонимаемых различий является определение общества как системы взаимосвязанных элементов: «Общество – это определенный тип системы, состоящей из разнородных взаимосвязанных элементов и подсистем, свойств и отношений, созданной индивидами на основе механизма обратной связи» [8, с. 27]. Это представление о системе базируется на «самопонимании различений» натурально существующих «элементов». Сторонники постпозитивизма утверждают, что разнородность, деление на элементы – это уже результат некой теоретизации.
Но как быть, если социолог имеет дело с не различенным миром? Н. Луман дает на этот вопрос нетривиальный ответ и утверждает противоположное представлению о системе как о связи элементов. Система в понимании Н. Лу-мана – это способ полагать различения: «Система – это не единство, а различие, и в связи с этим мы взваливаем на себя тяжелую задачу представить себе единство различия» [12, с. 81]; описания не являются системными, если они содержат предлог «и»: «И-динство – это квази-единство, которое удерживается только с помощью “И”». [12, с. 96]. Попробуем применить такое представление о системе к решению проблемы определения социальной структуры.
Структурирование социума для целей стратегирования. Сегодня заместителем со-циетальных представлений является конструкция «население». Она позволяет структурировать социум на номинальные или статистические группы (половой, возрастной состав, количество трудоспособных и т. п.). При социализме социальная функция планирования состояла в территориальном распределении жизнеобеспечивающих благ (инфраструктура, рабочие места, «соцкультбыт»). Расчет производился по отношению к количеству населения. И сегодня эта конструкция остается актуальной, так как государство про- должает выполнять функции централизованного распределения. В этом аспекте ОМСУ продолжают функционировать как «советская власть на местах». Однако значительное количество благ (рынок труда и жилья, товаров и услуг, продукты мысли и творчества) создается в результате активности свободных субъектов. Конструкция «населения» не захватывает эту активную компоненту социума. Стратегии, учитывающие социум только в его пассивной ипостаси, оставляют за рамками существенные факторы изменений. В результате социально-экономические процессы носят стихийный характер.
Неадекватность конструкции «население» давно является предметом критики. Крайняя позиция выражена в экоантропоцентрической парадигме, которая предлагает отказ от планирования в опоре не только на статистику, но и на любое структурирование социума: «Регулируя социальную жизнь, создавая социальную инфраструктуру, призванную служить жизнеобеспечению людей, важно отдавать себе отчет в том, что ее заботы и услуги не могут адресоваться группе или классу. Они должны быть адресованы человеку, причем не среднестатистическому или групповому, а отдельному, с его конкретными нуждами и запросами.
Кормится, учится, трудится, лечится человек, а не “слой” или “прослойка”, а значит инфраструктура, сконструированная в расчете на “безличные” компоненты социальной структуры, неэффективна по исходному принципу. Нет и не может быть прямой и простой связи между социальной структурой и, скажем, структурой жилищного фонда. Между ними стоит живой человек с собственной жизненной стратегией» [9, с. 101].
Мы привели подробное описание данной позиции потому, что она полностью противоречит подходу, который развивается в данной статье. На наш взгляд, жизненной стратегией обладает не «живой человек», а актор, которому в силу его места в социальной структуре имманентно присущ определенный вектор поведения, а значит и соответствующие запросы на инфраструктуры и структуру жилищного фонда. Задача социолога состоит в том, чтобы показать именно «прямую и простую связь» между социальной структурой и структурой жилищного фонда. Тогда эту связь сможет учесть управленец, планировщик, застройщик.
Структурирование социума не приводит к обезличиванию индивидов. Наоборот, оно позво- ляет группировать их по содержательно однородным устойчивым признакам. В стратегическом планировании невозможно учесть уникальность каждого «живого человека». Но необходимо оперировать различиями на уровне социальной структуры, чтобы учесть это разнообразие в стратегических решениях. Так устроено западное городское планирование. Жилой район на 3 тыс. человек проектируется в опоре на 10–15 различных типов потребителей жилья [21]. В результате формируется среда с разнообразной структурой жилого фонда. В наших городах оперируют не социологическим разнообразием потребностей разных групп, а маркетинговым различением на богатых и бедных. В результате появляются однообразные массивы «доступного жилья».
Идеальный тип – конструкция, которая снимает противоречие между индивидуальным и всеобщим. Противоречие между «среднестатистическим» и «живым» человеком снимается в конструкции идеального типа – методе, предложенном М. Вебером. «Социология образует понятия-типы и ищет общие правила хода событий» [6, с. 100]. Идеальные типы – это «абстрактные конструкции, создаваемые и используемые в качестве моделей реальных объектов и процессов. Будучи моделями или идеальными объектами науки, идеальные типы отнюдь не обязаны исчерпывать все содержание ситуации, весь эмпирический материал. Идеальные типы призваны… выполнять идентификационную и, если необходимо, классификационную функцию. Вебер писал, что нередко есть возможность выбирать между “неясными”, но, быть может, субъективно кажущимися более реалистичными понятиями, с одной стороны, и ясными, но “нереальными” и “идеально-типическими” – с другой. Он советовал предпочитать вторые» [15, с. 63].
Конструкция идеального типа объединяет единство с разнообразием, давая, с одной стороны, представление об общих свойствах всех индивидов, которых к нему можно отнести, с другой – показывая качественные различия между индивидами, которые относятся к разным типам. Напомним, что Луман определял систему как «единство в различии». При этом он подчеркивал, что система возникает по отношению к операции одного типа [12, с. 81]. И действительно, самые известные идеально-типические различения были получены в рамках определенных деятельностных операций. Гиппократ разделил людей на четыре типа темперамента по характеру соматических процессов в организме [22, с. 53].
Одно и то же лекарственное средство вызывало у разных людей разный эффект, что потребовало знания о разнообразии индивидов как пациентов. Но сегодня человек идентифицирует себя с типом темперамента вне медицинского контекста. Подобную операцию различения проделал К.Г. Юнг, разделив пациентов на интровертов и экстравертов: «Моя профессия уже давно заставила меня принимать в расчет своеобразие индивидов» [23, с. 582]. И это своеобразие оказалось схвачено двумя полярными типами, требующими альтернативных стратегий психоаналитического взаимодействия.
Различение К.Г. Юнга тоже «натурализовалось», и люди используют его вне психоаналитических рамок. Так и дифференциация общества на классы К. Маркса вышла за пределы политэ-кономической теории и, «овладев массами», стала материальной силой. Дифференциации сначала создаются, а потом обретают натуральное существование, если «класс на бумаге» начинает использоваться в качестве шаблонов для самоидентификации и построения на этом основании своих действий.
«Социальная структура – это вся сумма типизаций и созданных с их помощью повторяющихся образцов взаимодействия» [3, с. 60]. И гиппократовская, и юнговская, и марксовская типологии в точном соответствии с этим определением являются «суммой всех типизаций», так как позволяют типизировать любого индивида, но только в рамках определенной действительности. Следовательно, одно и то же множество людей может быть структурировано по-разному, в зависимости от контекста деятельностных операций. Остается ответить на вопрос, что же является основанием социологической дифференциации социума, актуальным для стратегического планирования? Наша гипотеза состоит в том, что это дифференциация по типам жизнедеятельности.
Термин «жизнедеятельность» мы предлагаем использовать как обобщающий для определения сходства и различия индивидов по типу социально-экономической активности, при этом рабочее понятие жизнедеятельности – это деятельность человека по поддержанию или преобразованию среды для устроения своей жизни и удовлетворения своих потребностей, включая особенности мыслительной деятельности (менталитет), определяющие способы осмысления ситуации, выбор жизненных стратегий. Каждому типу жизнедеятельности присущ свой вектор преобразовательной деятельности. Антиподом «жизнедеятельности» является «жизнеобеспечение», которое отражает пассивную компоненту социально-экономического поведения и фиксируется в конструкции «население».
Целью планирования, в версии Градостроительного Кодекса РФ, является «создание благоприятных условий жизнедеятельности человека» [7]. Но проектировщики продолжают использовать конструкцию «население» и в современной ситуации делают то же, что и при социализме: рассчитывают нормативные потребности в жизнеобеспечивающих благах, вместо того чтобы проектировать условия для реализации активности социума. Сегодня в качество «платформ», на которых происходит итоговая сборка отраслевых схем, выступают транспортная схема или модель города как «машины роста» [24]. Они отвергнуты западным планированием, так как консервируют технократический и экстенсивный характер городских изменений. Социологическая конструкция типов жизнедеятельности может стать современной платформой для сборки отраслевых схем и, на наш взгляд, приведет к смене технократического характера планирования на гуманитарный.
Гипотеза о типах жизнедеятельности нашла свое подтверждение в исследованиях, которые были проведены автором в разных субъектах РФ, а в крупных, средних и малых городах – в рамках подготовки документов стратегического характера. Каждый город и регион характеризовался своей идеально-типической структурой.
В завершение приведем пример структурирования социума по типам жизнедеятельности г. Красноярска. Исследование проводилось в рамках подготовки концепции генерального плана г. Красноярска и позволило сделать вывод о том, что различие индивидов, составляющих социум города, может быть зафиксировано в пяти идеальных типах жизнедеятельности: научно-индустриальном, постиндустриальном, мигрантском, деиндустриальном и маргинальном. Представитель своего типа в качестве благоприятных фиксирует разные требования к рынку труда и параметрам застройки, к планировочной структуре и транспортной инфраструктуре, по-разному оценивает управленческие и проектные решения, влияющие на условия реализации своей активности. Формат статьи не позволяет полностью развернуть специфику каждого типа. Приводим их краткий очерк.
Научно-индустриальный тип жизнедеятельности. Красноярск в советское время вы- рос до города-миллионника как единый комплекс индустриальных и обслуживающих производств, рабочей силы, образования, науки и проектирования. Сегодня город частично состоит из фрагментов этого ранее единого «народнохозяйственного» комплекса, куда включены не только работники индустриальных предприятий, но и представители образования и науки, которые продолжают воспроизводить технологии индустриальной эпохи (технологии образования, основанные на классно-урочной и лекционной системе передачи знаний, советскую технологию проектирования, основанную на концепции рационального размещения производительных сил, и т. п.). Развитие города представители этого типа связывают с восстановлением индустриального промышленного потенциала и образования, ориентированного на производство (инженерные кадры).
Мигрантский тип жизнедеятельности. Один из респондентов исследования зафиксировал: «У нас раньше был город для производства, а сейчас – город для строителей». Именно строительство создает сегодня в городе ситуацию увеличения предложений рабочих мест. И это не только проблема появления однообразных переуплотненных жилмассивов «эконом-класса».
Такой характер строительства приводит к форсированному притоку трудовых мигрантов. Сегодня они занимают нишу, которая в советское время была занята «временщиками» – горожанами с «отложенным потреблением» советской эпохи. Трудовые мигранты, по вполне очевидным причинам, характеризуются минимальным уровнем потребления в городе их временного пребывания, соответственно, чем больше их количество в городе, тем ниже качество городской среды.
Современная городская экономика – это экономика потребления. Соответственно, качество городской среды – это производная от уровня благосостояния горожан, способных платить за поддержание этого качества, как прямо, например, обновляя частный автотранспорт, работающий на топливе высокой степени очистки, так и косвенно, через поддержание определенного качества потребления товаров, услуг, развлечений, культурных продуктов и т. п. Если миграция – это естественный и нормальный процесс, то форсированная миграция – это результат определенных управленческих или отраслевых решений, искусственно созданная ситуация, с которой не справляются адаптационные механизмы социума.
Деиндустриальный тип жизнедеятельности. К этому типу относятся горожане, которые после развала индустриального комплекса вернулись к доиндустриальным видам занятости. Масштабная деиндустриализация в свое время стала большой проблемой для трудящихся г. Красноярска, работающих на высокотехнологичных производствах. Большинство занятых в малом бизнесе – это люди, вынужденно сменившие научно-индустриальный тип жизнедеятельности на доиндустриальный. Если в Европе значительная доля сферы услуг относится к постиндустриальному сектору, то в Красноярске – к доиндустри-альному. Специфика города состоит именно в вынужденной деиндустриализации. У многих есть высшее образование, что не характерно для до-индустриального сектора развивающихся стран (именно поэтому мы обозначаем этот тип как «де-индустриальный» вместо привычного «доиндуст-риальный»).
Для доиндустриальных социумов шагом развития может стать индустриализация (что и проявляется в миграции). Но для красноярцев, занятых в доиндустриальных секторах, это правило не действует. Для них шагом развития будет не индустриальное производство, а постиндустриальный бизнес, позволяющий создавать рабочие места для людей с образованием выше среднего. При этом представители управления продолжают двигаться в предположении, что люди, вынужденно занятые в доиндустриальной экономике, вернутся в индустриальное производство, если в городе будет «восстановлена» промышленность.
Постиндустриальный тип жизнедеятельности. Часть горожан приемлет постиндустриальный тип жизнедеятельности: проектный и командный тип занятости, новые – сетевые – способы и формы социальной и пространственной организации. Следовательно, нужны не постоянные рабочие места, а рабочие пространства, которые можно трансформировать под разные задачи (одним из таких постиндустриальных рабочих пространств является коворкинг). Со стороны этого типа впервые возникает запрос на «пустое» проектное, культурное или общественное пространство как элемент городской среды, которое представители постиндустриального типа жизнедеятельности заполнят своей активностью.
Для этого типа характерно стремление к активности, не связанной с потреблением – не только товаров, но и услуг, впечатлений, развле- чений, информации, культурных продуктов, которые можно отнести к сегментам массового производства, так как они сами являются производителями подобной продукции, но не в массовых, а в уникальных форматах. Именно этот тип актуализирует запрос на традиционную городскую улицу как главное общественное пространство города, тогда как на индустриальном этапе эту функцию выполняют центры потребления – торгово-развлекательные комплексы, расположенные, как правило, за пределами центра. Эта группа характеризуется ценностными ориентациями в отношении транспортного поведения, делая основанный на экологических ценностях выбор в пользу общественного транспорта, пешеходного или велосипедного передвижения.
Маргинальный тип жизнедеятельности. В г. Красноярске этот тип жизнедеятельности закреплен в материальной среде города – в компактных районах индивидуальной застройки, проживание в которых носит пограничный характер: это не деревня, но и не город. Поэтому в названии не содержится отрицательных коннотаций, хотя в этих районах сконцентрированы и социальные маргиналы (цыгане, семьи, живущие за чертой бедности). Как и в случае с этническими мигрантами, проблемой является не столько количество представителей этого типа в целом по городу, сколько их компактное проживание. В результате нежелательные типы жизнедеятельности закрепляются и воспроизводятся следующими поколениями. Социологические аспекты взаимодействия с представителями этого типа очень важны, так как сегодня они занимают перспективные для развития участки в центральной части города. В советское время проблема решалась просто, с помощью бульдозера. Сегодня жители индивидуальных домом, ветхих и без удобств, неохотно соглашаются на улучшение жилищных условий, так как переселение в благоустроенные квартиры влечет необходимость коммунальных платежей, которые для многих неподъемны. Кроме того, придомовой участок используется для извлечения дополнительного дохода и организации неформального бизнеса.
Таким образом, для целей стратегического территориального планирования реальный городской социум г. Красноярска может быть описан как конфигурация пяти идеальных типов жизнедеятельности, которые с большой вероятностью сохранятся на перспективу 20 лет и будут определять характер и своеобразие социальных процессов в городе. Представители каждого типа создают и воспроизводят свой тип городской среды (индустриальный, маргинальный и т. п.).
Поэтому, ставя цель на повышение качества городской среды, необходимо учитывать, что в одних административных границах можно выделить пять сущностно разнородных типов городских сред, требующих разных подходов. Любое управленческое решение создает благоприятные или неблагоприятные условия для того или иного типа, задавая тем самым их количественное соотношение. Зная эту взаимосвязь, органы управления могут откорректировать свои решения и влиять на направленность изменений. В аспекте данного структурирования социума нами были проанализированы ключевые управленческие и проектные решения.
Анализ показал, что декларативно принят курс на постиндустриальное развитие, однако значительная часть решений в области городского планирования способствует сохранению монопольного индустриального строительного комплекса. Специфика индустриального домостроения приводит к форсированному увеличению в городе представителей мигрантского типа жизнедеятельности. Это далеко не всегда этнические мигранты, но это всегда люди с заниженными требованиями к городской среде.
В рамках подготовки генерального плана были даны рекомендации, направленные на создание благоприятных условий для постиндустриального типа жизнедеятельности и адаптации научно-индустриального и деиндустриального типов к ситуации. Предложены подходы к преобразованию участков, занятых представителями маргинального типа. Разработаны проектные мероприятия, способствующие демонополизации строительного комплекса. Показано, что термин «развитие» применим только к решениям, создающим благоприятные условия для постиндустриального типа. Решения, консервирующие научно-индустриальный и де-индустриальный типы, носят характер адаптации, а не развития. Решения, способствующие консервации маргинального и увеличивающие долю мигрантского типа, оценены как деструктивные.
Таким образом, представление о социальной структуре, построенное на основании типов жизнедеятельности, может стать гуманитарной сборочной платформой для подготовки документов стратегического планирования, так как позволяет спрогнозировать социальные последствия отраслевых мероприятий. Даже при высоком уровне огосударствления экономики существенная доля общественного богатства созда- ется в реализации социальными группами различных жизнедеятельностных стратегий.
Особенно велика эта доля в городах, уровень благосостояния которых определяется не столько вливаниями сверху через распределительные государственные каналы, сколько продуктивной активностью самих горожан. Знание о социальной структуре гуманизирует стратегическое планирование, так как позволит учитывать в управленческом целеполагании реальность различных жизнедеятельностных стратегий, планировать действия, нацеленные на создание благоприятных условий их реализации горожанами, что, на наш взгляд, и есть основная функция органов власти.
В европейском подходе к выстраиванию public administration общим местом является то, что в постиндустриальную эпоху органы власти не должны брать на себя функцию целеполагания. Субъектами целеполагания становятся разные индивиды или коллективы, составляющие социум; органы власти выполняют исключительно сервильные функции, направленные на создание благоприятных условий реализации горожанами продуктивной активности и ликвидации условий деструктивных процессов. У нас же органы власти выступают в доминирующей роли субъектов целеполагания развития. Но так как это не цели для самих себя, а цели, которые должны быть вменены социуму, то целеполагание приобретает отчетливо утопический или идеологический характер, предполагающий некие «модернизационные» рывки и прорывы.
В результате социально-экономические процессы носят неуправляемый и несбалансированный характер. Наука бессильна изменить характер функционирования органов власти, но она может и должна вырабатывать знания, которые позволяют, при наличии политической воли, развивать систему управления. Пока не выработаны современные процессуальные представления о социуме, территориальное управление не может перейти к управлению социальными процессами, а продолжит «управлять людьми» и двигаться в режиме реагирования на последствия неуправляемости. Отсутствие социологического знания даже при наличии «политической воли» не дает возможности принимать правильные управленческие решения.
Список литературы Социологическое обоснование стратегий территориального развития: методологические и практические аспекты
- Александер, Дж. Неофункционализм сегодня: восстанавливая теоретическую традицию/Дж. Александер, П. Коломи//Социологические исследования. -1992. -№ 10. -С. 112-120.
- Александер, Дж. Социальная наука как чтение и перформанс: культурно-социологическое понимание эпистемологии/Дж. Александер, А. Рид//Социологические исследования. -2011. -№ 8. -С. 3-17.
- Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания/П. Бергер, Т. Лукман. -М.: Медиум, 1995. -323 с.
- Бурдье, П. Социология социального пространства/П. Бурдье; пер. с фр., общ. ред. Н. А. Шматко. -СПб.: Алетейя, 2005. -288 с.
- Вахштайн, В. С. Пересборка города: между языком и пространством/В. С. Вахштайн//Социология власти. -2014. -№ 2. -С. 9-37.
- Вебер, М. Основные социологические понятия/М. Вебер//Социологическое обозрение. -2008. -Т. 7, № 2. -С. 89-127.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/(дата обращения: 17.01.2017). -Загл. с экрана.
- Давыдов, А. А. К вопросу об определении понятия «общество»/А. А. Давыдов//Социологические исследования. -2004. -№ 2. -С. 23-42.
- Дридзе, Т. М. На пороге экоантропоцентрической социологии/Т. М. Дридзе//Общественные науки и современность. -1994. -№ 4. -С. 97-103.
- Конт, О. Дух позитивной философии/О. Конт. -Ростов н/Д: Феникс, 2003. -251 с.
- Кордонский, С. Г. Сословная структура постсоветской России/С. Г. Кордонский//Мир России. -2008. -№ 3. -С. 37-40.
- Луман, Н. Введение в системную теорию/Н. Луман. -М.: Логос, 2007. -360 с.
- Луман, Н. Власть/Н. Луман. -М.: Праксис, 2001. -256 с.
- Манхейм, К. Идеология и утопия/К. Манхейм//К. Манхейм. Диагноз нашего времени. -М.: Юристъ, 1994. -704 с.
- Никитаев, В. В. Субъекты и типология социокультурных изменений/В. В. Никитаев//Центр гуманитарных технологий: информ.-аналит. портал. -18.02.2014. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/6606 (дата обращения: 18.01.2016). -Загл. с экрана.
- О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федер. закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ//Российская газета. -2014. -Федер. вып. № 6418 (146). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html (дата обращения: 18.01.2016). -Загл. с экрана.
- Парсонс, Т. Понятие общества: компоненты и взаимоотношения/Т. Парсонс//Американская социологическая мысль/под ред. В. И. Добренькова. -М.: Изд-во МГУ, 1994. -496 с.
- Радаев, В. В. Возможна ли позитивная программа для российской социологии/В. В. Радаев//Социологические исследования. -2008. -№ 7. -С. 24-33.
- Тихонов, А. В. Отечественная социология: проблема выхода из состояния преднауки и поиска новых стратегий/А. В. Тихонов//Вестник института социологии. -2010. -№ 1. -С. 204-229.
- Тихонова, Н. Е. Социальная структура России: теории и реальность/Н. Е. Тихонова. -М.: Новый хронограф: Ин-т социологии РАН, 2014. -408 с.
- Управление развитием новых городов: Совместные исследования по соглашению между СССР и США о сотрудничестве в области жилищного и других видов строительства/Центр. науч.исслед. и проект. инт по градостроительству. -М.: Стройиздат, 1987. -200 с.
- Фромм, Э. Человек для себя/Э. Фромм. -М.: АСТ, 2016. -315 с.
- Юнг, К. Г. Психологические типы/К. Г. Юнг/под ред. В. Зеленского; пер. С. Лорие. -СПб.: Азбука, 2001. -736 с.
- Logan, J. The City as a Growth Machine/J. Logan, H. Molotch//Urban Fortunes: the Political Economy of Place. -Berkley; Los Angeles: University of California Press, 1987. -Р. 50-99.