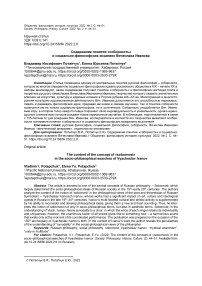Содержание понятия «соборность» в социально-философских исканиях Вячеслава Иванова
Автор: Потапчук Владимир Иосифович, Потапчук Елена Юрьевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одному из центральных понятий русской философии - соборности, которое во многом определяло социально-философские идеалы российского общества в XIX - начале ХХ в. Авторы анализируют, какое содержание получает понятие «соборность» в философских взглядах поэта и теоретика русского символизма Вячеслава Ивановича Иванова, творчество которого оказало значительное влияние на искусство, культуру и идейные искания в России рубежа XIX-XX вв. Многогранная и многосторонняя культурно-художественная деятельность Вяч. Иванова дополняется его способностью переосмысливать и развивать философские идеи, придавая им новое и свежее звучание. Так, и понятие соборности трактуется им не только социально-философски, но и эстетически. Соборность уподобляется Вяч. Ивановым хору, в котором голос каждого певца сохраняет свою индивидуальность и уникальность, однако единодушное слияние всех голосов рождает новое гармоничное звучание. В публикации, подготовленной в связи с 155-летием со дня рождения Вяч. Иванова, исследователи в контексте его творчества выявляют особенности понимания понятия «соборность» в социально-философских воззрениях мыслителя.
Русская философия, социальная философия, соборность, вячеслав иванович иванов, «мистический анархизм», «единство во множестве»
Короткий адрес: https://sciup.org/149139676
IDR: 149139676 | УДК: 1(091):141 | DOI: 10.24158/fik.2022.2.6
Текст научной статьи Содержание понятия «соборность» в социально-философских исканиях Вячеслава Иванова
,
,
Мировое сообщество, переживающее социально-экономическую трансформацию, вызванную распространением новейших способов коммуникации и взаимодействия (при помощи цифровых технологий, информационных контентов, интернет-пространства и т.д.) и ускоренную разразившейся в 2020 г. пандемией коронавируса, в последнее время все чаще обращает свое внимание на события столетней давности: Первая мировая война, революции 1905 г. и 1917 г., Гражданская война в России, пандемия испанского гриппа 1918–1920 гг., образование СССР в 1922 г. рассматриваются как причины глубоких изменений контуров и структуры мирового социокультурного пространства, возникновения общества современного типа (постиндустриального, демократизированного, высокотехнологичного и пр.). В ходе изучения опыта глобальной ломки устаревших социальных форм и структур и всеобъемлющего социального преображения, пережитого мировым сообществом в первой половине ХХ в., исследователи не теряют надежды обнаружить тенденции и закономерности, способствующие выявлению смысла происходящих ныне и грядущих социокультурных процессов. В этом контексте немалый интерес вызывает социально-философское и культурфилософское наследие русских мыслителей начала ХХ века, чьи тонко организованные натуры чутко реагировали на проявляющиеся тенденции нового рождающегося мира, чья художественная и интеллектуальная деятельность не только способствовала его конструированию, но и зачастую инициировала его преображение. В русской художественной культуре ХХ в. одними из первых проявили себя в культуро-, мифо- и миротворчестве представители символизма – теоретики и художники, такие как Д.С. Мережковский, В.Я. Брюсов, Андрей Белый, А.А. Блок и др. Но даже в этой блистательной плеяде мыслителей и поэтов особое место отводится теоретику русского символизма, поэту, критику, ученому, философу, писателю, экспериментатору Вячеславу Ивановичу Иванову (1866–1949), исключительной фигуре не только Серебряного века русской литературы, но и всей отечественной культуры, оказавшей значительное влияние и на культуру мировую.
Современный отечественный исследователь творчества Вяч. Иванова С.Д. Титаренко отмечает, что символизм поэта следует рассматривать и понимать как «проект искусства будущего, истоки которого он находил в культурах древности и в христианстве, полагая возможным прорыв к глубочайшим метафизическим и художественным откровениям посредством небывалого синтеза духовных и эстетических традиций в пространстве творчества современной культуры» (Титаренко, 2012: 5).
В оценке современников – единомышленников и критиков – Вяч. Иванов, вызывающий неоднозначное к себе отношение, но всегда неизменное восхищение, – универсальный художник, синтезирующей в своем творчестве многочисленные традиции, идеи, мотивы и образы разных культур и эпох, и в связи с этим – поэт и мыслитель, крайне сложный для понимания, что отмечали Андрей Белый, П.А. Флоренский, Ф.А. Степун, А. Ахматова, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк и др. «Закрытость», «запредельность», недоступность творчества Вяч. Иванова для широкой аудитории подчеркивал также А.Ф. Лосев1, считавший его своим учителем, С.С. Аверинцев, М.М. Бахтин и др.
В своих работах, посвященных Вяч. Иванову, С.Д. Титаренко обращает внимание на то, что в России до сих пор не осуществлено академического издания его сочинений, массовым читателем ХХ в. «он не прочитан» (Титаренко, 2012: 11), а богатое наследие этого уникального и универсального творца, конечно, требует дальнейшего исследования и освоения.
Вяч. Иванова называют «выразителем сущности своей эпохи» (Толмачев, 1994: 3). Родился он в семье служащего и дочери сенатского чиновника, окончил московскую классическую гимназию, пережив разочарование в религии и духовный кризис, в 1884 г. поступил на историко-филологический факультет Московского университета. По окончании двух курсов как многообещающий студент был направлен в Берлинский университет, где под руководством Т. Моммзена писал диссертацию по древнеримскому праву. В этот период времени он открыл для себя не только И.В. Гете, Й.В. Шиллера, Новалиса, А. Шопенгауэра, Р. Вагнера, немецких мистиков, Ф. Ницше, но и приобщился к философским идеям А.С. Хомякова, а также к софиологическому учению В.С. Соловьева. В 1896 г. он лично познакомился с этим философом, которого считал и своим наставником, и «покровителем» своей музы, и «исповедником» своего сердца, от которого за несколько месяцев до кончины «принял благословение» назвать первую книгу стихов «Кормчими звездами» (Ки-бальниченко, 2021: 92). По мнению исследователей, именно поклонение и служение Софии «вносило элементы теургического назначения искусства и стремление вернуть высокое сакральное содержание опошлившейся культуре» (Громов, 2002: 26) в деятельность Вяч. Иванова, причем особая роль отводилась в этом процессе художнику-творцу. Однако отмечается, что с другой стороны, от «стремительно входившего в интеллектуальную моду» того времени Ф. Ницше Вяч. Иванов перенял стремление к «органическому единству», пронизывающему культуру и человека в культе Диониса (Титаренко, 2012; Кибальниченко, 2021; Исупов, 2014; Созина, Маштакова, 2017). Позднее Вяч. Иванов изучал истоки римской религии в Британском музее, совершил ряд поездок в Грецию, Италию, Францию, Палестину и Северную Африку. Дополнил свои исследования античной культуры знакомством с оккультными учениями и изучением санскрита в Женеве под руководством Ф. де Соссюра. По представлению В.Я. Брюсова был приглашен Д.С. Мережковским к публикации своих работ в журналах «Путь» и «Новый путь». Осенью 1905 г. Вяч. Иванов с женой вернулся в Россию, где организовал в своей петербургской квартире известный и популярный салон для русской художественной элиты – «башню», который посещали многие видные поэты, писатели, музыканты, мыслители, артисты и режиссеры Серебряного века. На этих приемах-«симпозионах» Вячеслава Иванова и его музы Лидии Зиновьевой-Аннибал «все было подчинено культурному жизне-строительству» и мифотворчеству (Толмачев, 1994: 5).
Пережив трагическую потерю жены, Вяч. Иванов перебрался с новой семьей в Москву, где общался с Е. Трубецким, С. Булгаковым, Н. Бердяевым, П. Флоренским и др., сблизился с В. Эрном. Встретив Февральскую революцию с восторгом, понимая под ней «воскресение» российского народа, он был разочарован октябрьскими событиями 1917 г., встав в оппозицию к власти большевиков. В 1918 г. Вяч. Иванов поступил на советскую службу, а, перенеся голод, холод, болезни и смерть жены, через два года стал ординарным профессором классической филологии в Бакинском университете, где защитил докторскую диссертацию. В 1924 г. он не без трудностей выехал из Советской России в Венецию и в 1926 г. занял должность профессора в итальянском колледже. Спустя десять лет, отказавшись от советского паспорта, он начал регулярно печататься в европейских изданиях. До своей смерти Вяч. Иванов жил в Риме и являлся профессором русского языка и литературы в Папском восточном институте. Круг общения Вяч. Иванова того периода был очень широк: он сотрудничал со многими видными европейскими интеллектуалами эпохи – Г. Марселем, М. Бубером, Ж. Маритеном, Т. Уайлдером и др.
Творческая деятельность Вяч. Иванова была направлена на созидание «грядущей соборной культуры», предтечей которой он себя считал (Толмачев, 1994: 8). Современниками поэта и исследователями его наследия особо отмечается способность Вяч. Иванова, восприняв культур-философскую идею, обогатить ее, развить, расширить и переработать, воплотив в художественной жизнедеятельности. Интеллектуальная проза писателя «соткана из множества фрагментов, каждый из которых по отдельности не является собственно ивановским… калибр ума Иванова… сводит эти достаточно разрозненные осколки воедино» (Толмачев, 1994: 12). Его владение современными и мертвыми языками, исчерпывающее знание античности, широчайшая эрудиция, свободное перемещение в культурных пластах и традициях Европы и России были ориентированы на осуществление «духовного синтеза», идею которого он активно представлял в своем многообразном и многоформенном творчестве.
Представление о единстве культуры у Вяч. Иванова проистекало из отождествления образов Диониса и Христа, которое было дополнено учением Вл. Соловьева о Богочеловечестве. Посредством мистического культа, лежащего в основе всякой культуры, по мысли Вяч. Иванова, мог быть преодолен кризис индивидуализма, беспокоивший творческую элиту рубежа XIX–XX вв. В поисках основ для культурного синтеза он обращался к одному из ключевых понятий русской философии – соборности.
Идея «единства во множестве», выражаемая в разнообразных понятиях (соборность, всеединство, кафоличность), но сохраняющая свой основной смысл – органичное сочетание двух принципов – свободы и единства – и проявляющаяся как стремление к идеалу целостности, выступает в качестве одной из центральных в отечественной социально-философской мысли. В данной статье мы обратимся к трактовке этой идеи, представленной в творческом наследии Вячеслава Ивановича Иванова.
В начале прошлого века, работая над философской проблемой сочетания единства и свободы, Вяч. Иванов обращается к содержанию введенного славянофилами понятия «соборность». Рубеж XIX–ХХ вв. он обозначал как эпоху преобладания «критического» начала над «органическим», когда происходит расчленение достигнутой в Средние века на основе веры целостности культуры. Для размышлений Вяч. Иванова характерно предчувствие «новой органической культуры», наступление которой ознаменуется, по его мнению, появлением «обновленного соборного духа» (Иванов, 1994: 98).
Однако славянофильская соборность, подразумевающая, скорее, социально-философское содержание и поэтому синонимичная в чем-то «коллективизму» и «общинности», в воззрениях Вяч. Иванова приобретает иной смысл – эстетический. К 1910-м гг. под влиянием раннего
Ф. Ницше, в частности, его «Рождения трагедии из духа музыки», Вяч. Иванов соборностью именует возвращение к мистерийному переживанию религиозного культа, утраченного в момент рождения театра, в котором зрители из участников совместного действа превращаются в сторонних наблюдателей, трагедия страдающего бога становится зрелищем, а связь с религиозной основой общинного бытия окончательно утрачивается. Ф. Ницше связывал возрождение античной мистерии с творчеством Р. Вагнера, который должен был совершить «исторический сдвиг» (Ки-бальниченко, 2021: 94) в театральном искусстве, а Вяч. Иванов сотрудничал с А.Н. Скрябиным, который возлагал на искусство миссию преображения жизни, в своих экспериментах стремился к синтезу искусств и мечтал о создании музыки для мистерий. В «диониснийское оргийное общение» должно превратиться, по мысли Вяч. Иванова, современное театральное действо, где нет режиссеров, зрителей и актеров, где каждый участник как «привлекал божественное присутствие, так и воспринимал благодатный божественный дар», а «сцена должна вновь перешагнуть за рампу и включить в себя зрительскую общину» (Чиндин, 2019: 64). «Хоровое творчество мифа» – основа не только мистического реализма, который активно развивал Вяч. Иванов, но и всего будущего общественного миропонимания (Чиндин, 2019: 64). В этом «театре нового типа» участники действа «объединятся в хор – свободно и согласно действующий коллектив» (Кибальни-ченко, 2021: 91), для описания которого Вяч. Иванов и использовал выражение «наше соборное я » (Кибальниченко, 2021: 91). Хор нового театра, видимо, должен был стать прообразом соборной общины, в которой каждый ее член, не утратив собственной свободы, станет единым целым с другими ее участниками (Кибальниченко, 2021: 91). Мифологически или религиозно осмысливая историческую реальность, в своих проектах «всенародного» переживания «почвенных ценностей» совместно с другими философами и писателями Вяч. Иванов предлагал «новую этику христианского общения» (Исупов, 2014: 172) в форме открытых общинных мистерий.
На социально-философские воззрения Вяч. Иванова оказала определенное влияние концепция двух типов общества Андрея Белого, изложенная в его работе «Луг зеленый» (1905), где, во-первых, выделяется «общество – машина, поедающая человечество, паровоз, безумно ревущий и затопленный человеческими телами» (Белый, 1994: 328), и, во-вторых, «общество – живое, цельное, нераскрытое, как бы вуалью от нас занавешенное Существо, спящая Красавица, которую некогда разбудят от сна» (Белый, 1994: 329). В размышлениях над своим «Лугом зеленым» в 1928 г. Андрей Белый в качестве эмблем-символов «живого общества» называет различные общественные ассоциации, организм, церковь, общину, Софию, Персефону, Эвридику и т.д. Под этим «живым обществом» – «коллективной культурой», что отождествляется мыслителем с Софией, Андрей Белый понимает «ритм сложения индивидуальностей в индивидуум коммуны», который «взывает к равноправному свободному раскрытию всех свойств каждой из индивидуальностей в переложении и сочетании всех видов развиваемых связей от каждого к каждому; коммуна-триада из a , b , c личностей, чтобы личности эти в коммуне раскрыли себя индивидуумами, взывает, чтобы “ a ”, оставаясь “ a ”, развило бы себя еще как “ ab ” в отношении с “ b ”, как “ аc ”, как “ abc ”, как “ acb ”; только тогда “ a ” выпрямится в индивидуальной свободе творчества социальных отношений; то же о “ b ” и о “ c ”» (Белый, 1994: 441).
Подобный подход к анализу человеческого социального общежития обнаруживается и у Вяч. Иванова, в частности, в его статье «Легион и соборность» (1916), которая была вызвана необходимостью осмыслить социокультурный опыт современных автору исторических событий, в особенности – Первой мировой войны, и в которой излагается понимание им идеи соборности.
Как и Андрей Белый, Вяч. Иванов выделяет два типа общества. Первый – организация – это общество, основывающееся на социальной кооперации, где происходит «соглашение особей по видовому признаку с целью усиления вида» (Иванов, 1994: 97). Толкает человеческие индивиды к социальной кооперации стремление к самосохранению. Таким образом, общественное единство механического типа (организация) возникает в связи с необходимостью выживания людей, предполагает жесткую дисциплину, рациональность и создается посредством их обезличивания, поэтому общество, возникшее на основе социальной кооперации, Вяч. Иванов воспринимает как механическое скопление атомов.
Сущность второго типа общества, противопоставляемого социальной организации, иная: она не поддается окончательному рациональному пониманию. Этот тип общества есть соборное единство, базирующееся на свободном согласии, возникающем в ходе духовного творчества. Мыслитель не способен найти для него «равного по содержанию логического понятия» (Иванов, 1994: 101), перевести его на другие языки, подобрать к нему «типическое явление в жизни», так как соборность – это общественное единство, по своей сути, иррациональное. Подобно А.С. Хомякову, Вяч. Иванов относит соборность к категориям скорее должного, нежели сущего. По мысли философа, она «задание, а не данность; никогда еще не осуществлялась на земле всецело и прочно, и ее нельзя найти здесь или там, как и Бога» (Иванов, 1994: 100).
Оценивая происходящие исторические события, мыслитель верит, что у человечества имеется возможность посредством соборного единения достигнуть состояния «универсального коллективизма», так как переходный период общественной дифференциации и индивидуалистического разделения людей заканчивается. Основной проблемой же грядущей социальной трансформации Вяч. Иванов считает выбор принципа общественного устройства, по которому будет осуществляться объединение человечества в будущем: организация или соборность? Мыслителя беспокоит, что организация, предполагающая обезличивание и отказ от свободы, постепенно превращается «в верховный принцип общежития» (Иванов, 1994: 96). Для Вяч. Иванова соборность – это и квинтэссенция русской национальной духовности, и издревле существовавшая основа для слияния воедино христианской, эллинской и славянской языческой культурных традиций (Кибальниченко, 2021: 97), в результате чего будет достигнуто восстановление утраченной органической эпохи в новом состоянии на новом историческом витке.
Статья «Легион и соборность» была реакцией на предложенную В.Ф. Оствальдом модель всемирно-исторического процесса, в соответствии с которой человечество проходит в своем развитии три стадии: «стадное» состояние (1), торжество индивидуализма (2), которое сменяется социальной организацией (3). В.Ф. Оствальд приходит к выводу, что к началу ХХ в. Германия достигла высшей стадии – социальной организации. Вяч. Иванов негативно оценивает такое общественное устройство, поскольку усиление коллективного начала в нем происходит за счет «умаления и истощения» личного. По мнению философа, для России подобное культурное состояние неприемлемо, так как, в его представлении, «славянское означение верховной ступени человеческого общежития: не организация, а соборность» (Иванов, 1994: 101).
Выделяя два типа общества, Вяч. Иванов в своей статье продолжает социально-философскую традицию, начатую еще Августином Аврелием в его учении о «двух градах», поэтому соборное единство сопоставляется с Градом Небесным, а на социальную организацию переносятся свойства Града Земного. Так, например, подчеркивается, что при строительстве Земного Града, иначе, при формировании общества по типу социальной организации личность полностью растворится в социальном целом, которое в данном случае и выступает наивысшей ценностью, а поскольку его существование не бесконечно во времени, оно рано или поздно исчезнет вместе с поглощенными им индивидуумами. В основе же соборности лежит единение и отдельной личности, и общины с Богом, и это единство, во-первых, переживет любые свои исторические формы, а, во-вторых, обогатит личность верующего, придавая ей вневременные и внеприродные смыслы и ценности. Подобно славянофилам, Вяч. Иванов указывает, что верить в Бога – значит любить его, поскольку только любовь способна актуализировать что-либо, именно она порождает «чувство реальности любимого бытия» (Иванов, 1994: 98).
Обращает на себя внимание то, что социальная проблематика в размышлениях Вяч. Иванова переплетается с мотивами религиозными, поэтому в его статье «Легион и соборность» описание двух типов общества сопровождается апокалиптическими образами. Так, социальная организация как общество, обладающее мнимым единством, в котором реализуется древний принцип «князя мира»: «разделяй и властвуй», уподобляется автором «общественному зверю», «сверхзверю» с развитыми коллективными центрами сознания, «общественным мозгом», «нервной системой» (Иванов, 1994: 99). Итак, социальная организация у Вяч. Иванова соотносится с образом антихриста. Автор для оценки подобного типа общества выбрал крылатое выражение из Нового завета – «легион, ибо нас много» (Иванов, 1994: 100). При характеристике общества-организации также используются образы библейского «мятежного гордого Адама» и «блудного сына», осознавшего себя нищим (Иванов, 1994: 97–98). Вяч. Иванов замечает также, что возвеличивание и даже обожествление укрепляющегося Земного Града описывается в «Левиафане» Т. Гоббса, а его обоснование осуществляется в учении о государстве Г.Ф.В. Гегеля.
Н.О. Лосский при оценке взглядов Вяч. Иванова на соборность указывал, что общественным идеалом этого мыслителя «является общинная (соборная) анархия» (Лосский, 1991: 428). Провозглашенная Вяч. Ивановым концепция «мистического анархизма» утверждает приоритет безграничной свободы личности в ее движении к Богу, при котором преодолевается вызывающий неприятие мир необходимости, но условием этого приближения к Абсолюту Вяч. Иванов считает огранивающую природный эгоизм человека соборность, с одной стороны, включающую личность в общинное согласованное многоголосие, но, с другой стороны, исключающую всякое принуждение со стороны общества (Сарычев, 1991: 108). Следовательно, ивановская идея соборности приобретает характер мистико-анархический, поскольку обретение «последней свободы» человеком и человечеством предполагает мистическое проникновение в сферу сверхличного, то есть утверждается «принцип внутреннего подчинения личной воли чувствованию и попечению все-ленскому»1. Отмечается, что «концепт индивидуальности-меона постепенно исчезает, ему на смену приходит идеал соборной личности, соответствующей всенародному искусству» (Созина, Маштакова, 2017: 109), чему способствует появление и художника-теурга (к которым Вяч. Иванов, относит, например, Сервантеса, Байрона, Пушкина, Шиллера).
В ивановской концепции «неприятия» мир воспринимается как постоянно становящийся, динамичный, в связи с чем мыслитель сравнивает его не с «однажды навсегда установленным храмом», а с «кораблем, плывущим под звездным небом»2. Поэтому и «общественность – как становящуюся соборность»3 Вяч. Иванов не мог связывать с определенно установленными конкретными социально-этическими нормами, предписаниями и требованиями.
Писатель не конструирует новую социальную модель, он не строит также и новую мораль, но указывает направление, в каком дух человеческий должен устремляться к свободе, преодолевая необходимость. О своем «мистическом анархизме» Вяч. Иванов писал, что «он не строит и не скрепляет скрепами; развязывает, а не связывает энергии, и не знает между ними иной связи, кроме соприсущего им тяготения к полюсам сверхличного. Ибо соборность – сверхличное утверждение последней свободы»4. Однако следует отметить, что в отдельных статьях Вяч. Иванов указывает на анархию как возможную альтернативу современной ему социокультурной реальности. По его мысли, именно в «анархической общине» и достигается высший синтез личного и соборного начал. Этот анархический союз, по мнению Вяч. Иванова, может осуществиться только как община, объединенная и пронизанная верховной идеей – идеей религиозной.
Но о какой религиозности ведет речь Вяч. Иванов? Происхождение анархической идеи он видит в дионисийстве. Культ Диониса поэт-мыслитель трактует необычно: образ языческого бога превращается у него в предвестника Христа, предстает в качестве религиозной метафоры свободы творчества. С именем Диониса у Вяч. Иванова связаны представления о восхождении к сверхличному опыту посредством творческого экстаза, реализуемого ярче всего в искусстве. Поэтому Вяч. Иванов именно в творчестве усматривает пути к соборному единству. Например, он подчеркивает, что современная поэзия стремится преодолеть индивидуализм и стать «вселенскою, младенческою, мифотворческою»5. По мнению Вяч. Иванова, в будущей «новой органической эпохе» искусство, пропитанное дионисийским духом, сольется с религиозной стихией народа.
Андрей Белый в чем-то поддерживал выводы Вяч. Иванова, говоря, что он «совершенно прав, когда утверждает за искусством религиозный смысл» (Белый, 1994: 343), но он же в своей статье «Символизм и современное русское искусство» подчеркивал, что рассматривать мистический анархизм в качестве религии – глубокая ошибка, так как в нем невозможно найти Бога6.
Г. Флоровский обнаружил, что соборность у Вяч. Иванова, «скорее, эстетическая схема, чем религиозная, но именно религиозная жажда и утоляется здесь эстетическими подделками» (Фроловский, 1991: 458). Мечтая «о “соборности”, о соборном действии, он хотел религиозно освоить проблему “народа” и “коллектива”. Но сам оставался всегда уединенным мечтателем, слишком погруженным в поэтические экстазы» (Фроловский, 1991: 458). Г. Флоровский справедливо замечал, что подлинная соборность «не есть тайна мистического коллектива, но откровение Единого Христа, в котором все одно, будучи каждый с Ним. То и было опасностью “символизма”, что религия здесь превращается в искусство , почти что в игру, и в духовную реальность надеялись прорваться приступом поэтического вдохновения, минуя молитвенный подвиг» (Фролов-ский, 1991: 458). Отсюда можно сделать вывод, что взгляды Вяч. Иванова сплошь пронизаны эстетизмом, преодолеть который он так и не смог.
Нелицеприятную оценку концепции «мистического анархизма» дал и Андрей Белый в автобиографической рукописи «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть на всех фазах моего идейного и художественного развития». Вернувшись в 1907 г. в Россию из Европы, он писал: «Я застал в Петербурге безобразную пародию на мои утопии о соборности эпохи 1901–1905 годов под флагом мистического анархизма… В мистическом анархизме я вижу кражу интимных лозунгов: соборности, сверх-индивидуализма, реальной символики, революционной коммуны, многогранности, мистерии. Я вижу свои лозунги вывернутыми наизнанку…» (Белый, 1994: 443–444).
Итак, вернувшись к центральному в славянофильской философии понятию «соборность», Вяч. Иванов значительно расходится с идеологами этого направления в его трактовке. Основываясь на своей концепции «мистического анархизма», он способен определить сущность русской идеи только в связи со всемирным служением, не отдавая должного национальным культурным ценностям и интересам. Данная позиция является закономерным следствием оказанного на Вяч. Иванова влияния «метафизики всеединства» В.С. Соловьева, в соответствии с которой результатом духовного совершенствования общества и отдельных личностей должно стать появление единства нового типа – Богочеловечества, движение к которому преодолевает любые границы и различия среди людей, в том числе, например, конфессиональные. Предложенный подход, характерный для представителей «христианского универсализма», в корне меняет смысл русской идеи, превращая ее из национальной в общечеловеческую.
По мнению С.А. Кибальниченко, воззрения Вяч. Иванова на соборность радикально разошлись с хомяковскими, а «от славянофильства осталась лишь словесная оболочка» (Кибальни-ченко, 2021: 100). Именно буквальное восприятие идей соловьевского всеединства привело Вяч. Иванова к важнейшему мировоззренческому событию в его жизни: принятию католичества. В 1926 г. в соборе Святого Петра в Риме он стал католиком восточного православного обряда. Творимый мифом высший духовный синтез, способный преобразить культуру, подвигал Вяч. Иванова к этому шагу, предполагающему достичь в его внутреннем мире органического единства через слияние двух ветвей христианства, единства, которое завещал ему один из его идейных наставников – Владимир Соловьев. Этот поступок Вяч. Иванова – своеобразная иллюстрация его понимания соборности, которую он интерпретирует в качестве надконфессиональной, всеохватывающей, вселенской по характеру, что соответствует общему духу ивановского творчества и мировоззрения: преодоление кризиса индивидуализма и культурной дифференциации во «вселенском чуде» (Иванов, 1994: 366), достижение новой «органической эпохи», аналогичной «эдемскому состоянию», где «центр сознания… – не в личности, а вне ее» (Иванов, 1994: 367), где установятся ценности «всеобъемлющего в Боге сознания». Человечество же представлялось Вяч. Иванову вслед за В.С. Соловьевым «некой “соборной личностью”», поэтому и «слово “соборность” поэт-символист прочитал, в первую очередь, как “вселенскость”» (Кибальниченко, 2021: 99), что, возможно, и привело его к принятию католицизма.
Обращение к опыту русских философов начала ХХ в. и, в частности, к богатому интеллектуальному и духовному наследию Вячеслава Ивановича Иванова может дать новый импульс поиску векторов движения в попытках наметить контуры национальной доктрины, в обозначении приоритетов и расстановке акцентов в отборе и разработке общественных идеалов. В нашу эпоху интенсивных социокультурных трансформаций в очередной раз оказался актуальным вопрос о путях и тенденциях дальнейшего развития как мирового, так и российского общества и культуры. Немаловажную роль в этих процессах должен сыграть анализ базовых понятий, принципов, концептуальных положений, выработанных русской философской мыслью, в том числе понятия «соборность». У Вяч. Иванова соборность, во-первых, приобретает эстетическое значение, в связи с чем она понимается как особое взаимодействие участников мистического действа, инициированного верховным для национальной традиции культом, реальность которого обеспечивается возрожденным мифом, при этом возникает особая человеческая общность, подобная античному хору, в которой каждое отдельное личное «Я» не только сохраняет свои индивидуальность и свободу, но и обретает себя в общинном целом. Так, для Вяч. Иванова хор это – «чувственное ознаменование соборного единомыслия и единодушия, очевидное свидетельство реальной связи, сомкнувшей разрозненные сознания в живое единство» (Иванов, 1994: 160). Во-вторых, у этого мыслителя соборность выступает не только в качестве способа построения или возрождения утопической общности людей «органической эпохи» и достижения или восстановления утраченного духовного синтеза, обозначенного В.С. Соловьевым как «всеединство» и «Богочелове-чество», но и в качестве его критерия и краеугольного камня. Так, например, по мысли И. Чин-дина, ивановский сверхиндивидуализм – это своеобразный мост, позволяющий преодолеть пропасть между индивидуалистической эстетикой и принципом «вселенской соборности» на пути к всенародному искусству и мифу (Чиндин, 2019: 63), прорыв к которым теоретически готовился русскими символистами и Вячеславом Ивановым.
Список литературы Содержание понятия «соборность» в социально-философских исканиях Вячеслава Иванова
- Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. 528 с.
- Громов М.Н. Софийные мотивы в творчестве Вячеслава Иванова // Иванов - творчество и судьба: к 135-летию со дня рождения. М., 2002. С. 25-30.
- Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994. 428 с.
- Исупов К.Г. Философия литературы: исследование мифологической реальности поэтического сознания (по поводу книги С.Д. Титаренко «"Фауст нашего века": мифопоэтика Вячеслава Иванова» (СПб., 2012. 654 с.)) // Соловьевские исследования. 2014. № 1 (41). С. 168-176.
- Кибальниченко С.А. Трансформация идей А.С. Хомякова в творчестве Вяч. Иванова // Русско-Византийский вестник. 2021. № 1 (4). С. 90-101. https://doi.org/10.47132/2588-0276_2021_1_90
- Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. 559 с.
- Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма: проблема «жизнетворчества». Воронеж, 1991. 320 с.
- Созина Е.К., Маштакова Л.В. Книга Вяч. Иванова «По звездам»: принципы «единого миросозерцания» // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2017. Т. 18, № 1. С. 102-112.
- Титаренко С.Д. «Фауст нашего века»: мифопоэтика Вячеслава Иванова. СПб., 2012. 654 с.
- Толмачев В.М. Саламандра в огне. О творчестве Вяч. Иванова // Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994. С. 3-16.
- Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. 599 с.
- Чиндин И. Поэзия мифа Вяч. Иванова и творчество мифа Д. Андреева // Философская антропология. 2019. Т. 5, № 1. С. 62-80. https://doi.org/10.21146/2414-3715-2019-5-1-62-80