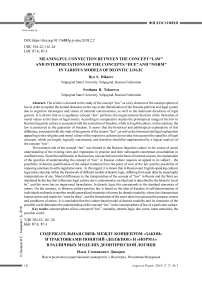Содержательная связь между концептом "Закон" И трактовками понятий "Должное" И "Норма" В различных моделях деонтической логики
Автор: Дикарев Илья Степанович, Токарева Светлана Борисовна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию концепта «закон» как ключевого элемента правовой концептосферы с целью объяснения ментальных препятствий на пути либерализации российской политикоправовой системы, обусловленных когнитивными стереотипами и ценностными установками национального сознания, а также господствующими направлениями правогенеза. Показано, что в качестве регулятивного концепта «закон» выполняет организационную функцию формирования моральных ценностей как основы правовых норм. По данным сравнительных исследований прототипический образ закона в русской лингвокультуре ассоциируется с ограничением свободы, тогда как в англоязычной культуре, напротив, закон воспринимается как гарант свободы. Представляется, что историко-филологическое объяснение этого различия, связанное с исследованием генезиса лексемы «закон», а также историко-правовое объяснение, апеллирующее к религиозно-нравственным ценностям соответствующих культур, не учитывают специфики правовых концептов, которые являются в значительной степени логически сконструированными, а потому должны быть дополнены логическим анализом концепта «закон». Понятийная сторона концепта «закон» сформировалась в русской лингвокультуре в ходе социального осмысления сложившихся в практике правил и предписаний и последующего понятийного закрепления их в кодифицированных нормах. Поскольку кодификация в русском праве осуществлялась с опорой на внешние источники, объяснение специфики понимания концепта «закон» в русской культуре требует обращения к его предметной стороне - закрепленной в правовой норме возможности деонтической квалификации значимого с точки зрения права поступка субъекта и возможности наложения санкций. В этой связи показано, что в русской и англоязычной культурах правовые нормы развиваются в рамках разных моделей деонтической логики, отличающихся друг от друга содержательными трактовками должного. Ментальные различия в трактовке концепта «закон» в России и на Западе обусловлены тем, что в русской правовой культуре должное понимается как идеал и описывается формулой «должно быть», а норма представляет собой безличную формулировку. В деонтической логике это соответствует стандартной семантике норм. Напротив, в западной культуре позитивное право базируется на идее свободы самоопределения частных лиц и тяготеет к другой модели - обобщенной семантике норм для деонтической модальности, где должное характеризует человеческое действие и расшифровывается как «должно быть сделано», а формулировка нормы учитывает цели, средства и условия действия. Сделан вывод о том, что утвердившаяся в культуре модель деонтической модальности и заданная ею семантика возможного мира определяет понимание концепта «закон» в концептосфере права конкретной культуры.
Концептосфера права, концепт "закон", менталитет, деонтическая логика, должное, норма, семантика норм, возможный мир
Короткий адрес: https://sciup.org/149130319
IDR: 149130319 | УДК: 304.42; | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2018.2.2
Текст научной статьи Содержательная связь между концептом "Закон" И трактовками понятий "Должное" И "Норма" В различных моделях деонтической логики
DOI:
Попытки осуществить либерализацию политико-правовой системы в постперестроечной России обнаружили не только слабость отечественных институтов гражданского общества и несовершенство демократических оснований политической власти, но и ментальные противоречия между Россией и Западом, препятствующие утверждению основной идеи либерализма об «устойчивом общественном порядке, стабильность которого строится на свободе индивида действовать по своему усмотрению» [31]. С одной стороны, не оправдались ожидания, что взаимодействия и коммуникации, строящиеся на интересе людей как частных лиц, станут в российском обществе основой массового образования новых публичных сообществ и гражданских союзов. С другой стороны, конструктивный характер и понятийный строй доктрины западного либерализма оказались чуждыми для российской политико-правовой системы. В отличие от западного права, которое начиная с XVII в. в качестве основы построения государства утверждало свободу самоопределения частного лица, российское позитивное право никогда не было нацелено на объективное выражение потенциальной способности человека самому полагать ценности и цели своей деятельности и не служило механизмом трансформации частного интереса в гражданский [31]. Даже кризис классического либерализма после Первой мировой войны не повлиял на господство либеральных идей в гражданском и политическом сознании Запада, тогда как применительно к современной российскому обществу по-прежнему актуально звучат слова Н.А. Бер- дяева: «Либеральные идеи были всегда слабы в России и у нас никогда не было либеральных идеологий, которые получали бы моральный авторитет и вдохновляли» [4, с. 30].
Различие между правовой культурой России и Запада проявляется в доминировании в них различных направлений правогенеза. В западном обществе преимущество получила восходящая легитимация, при которой право и естественный правопорядок спонтанно порождаются самими общественными отношениями: в законах и нормах, как правило, фиксируются решения суда, а население выступает в качестве активного субъекта легитимации власти. Напротив, для российского общества в большей степени характерна нисходящая легитимация, при которой законы разрабатываются законодателем как готовая система норм, с опорой на которую искусственно устанавливается правопорядок, а населению отводится роль пассивного объекта воздействия со стороны институтов политической власти [19; 31]. Таким образом, в первом случае закон как регулятор общественных отношений является спонтанно складывающимся правом, лишь задним числом получающим соответствующую фиксацию, во втором – продуктом правотворческой деятельности [31]. Господствующее направление правогенеза влияет на особенности национального менталитета, инерция которого, в свою очередь, оказывает сопротивление попыткам изменить тип правовой системы.
Национальный менталитет как исторически сформировавшийся способ восприятия и понимания действительности, проявляющийся в особенностях мышления и поведения людей, определяется совокупностью когнитивных стереотипов и ценностных установок нации, образующих ее концептосферу. Концепты представляют собой опредмеченные в языке фрагменты жизненного опыта человека, связанные с переживаниями и зафиксированные в памяти в форме представлений, понятий и ассоциативных связей между ними [14]. В концептах воплощается этнокультурная специфика менталитета народа, поэтому ключом к объяснению влияния менталитета на направление и темпы социальной динамики в различных сферах является исследование ключевых концептов в этих областях.
М.Н. Федулова характеризует «закон» как суперконцепт [30], поскольку он порождает в культуре целый ряд понятий, относящихся к различным сферам деятельности (и соответствующим концептосферам): производственной, правовой, духовной (научный закон; закон Божий; юридический закон; закон как правило, норма, установление, предписание, требование, императив и т. д.). Такой широкий спектр порождаемых номинаций в различных областях культуры (высокая «номинативная плотность») свидетельствует об актуальности и значимости концепта «закон» для жизни и сознания народа, о его превращении в устойчивое ментальное образование и своеобразную культурную константу [26].
В философии и когнитивной лингвистике выявлена присущая любому концепту двойственность: он имеет, с одной стороны, когнитивную природу, с другой – представляет собой «вербализованный культурный смысл», «сгусток смысла» [7, с. 11], «ячейку», «пучок» культуры [26, с. 43]. В качестве компонентов когнитивной системы концепты выступают объяснительными конструкциями и инструментами познания окружающей действительности [1, с. 102], особыми «мыслительными единицами», играющими роль посредников между человеком и действительностью и отражающими культурно обусловленное представление человека о действительности: «...Разные языки являются носителями разных познавательных перспектив, разных взглядов на мир» [6, с. 186]. Специфика концептов заключается в присущем им особом, «прототипическом» способе категоризации действительности, отличающимся от описания через признаки [35]. Поэтому хотя как мыслительные акты концепты связаны с решением проблем, они не являются пропозициями – языковым воплощением дел в действительности или в ситуации, не отражают реальность в том смысле, что не имеют референции и не существуют в виде совокупности признаков. Концепт имеет конструктивную природу, ему онтологически предшествует категоризация, которая создает типовой образ и формирует «прототип» [3].
Регулирование социальной жизни имеет основанием определенную систему ценностей, представленную в коллективном и индивиду- альном сознании функционирующими в семантическом пространстве языка концептосфера-ми [30, с. 106]. Важнейшей из них является концептосфера права – «система представлений, значений, образов и ассоциаций, возникающих в индивидуальном и массовом сознании в процессе восприятия и осмысления ключевых морально-нравственных категорий, имеющих правовую нагрузку» [2, с. 4]. Языковая определенность правовой концептосфе-ры реализуется не только в условиях коммуникации, но и через взаимодействие с концептами других сфер, прежде всего морали [27; 28]. Смысловые значения правовых концептов не формируются исключительно в рамках правоведения как научной дисциплины, они рождаются в результате взаимодействия представлений различных участников социальной коммуникации: профессиональных юристов, масс, представителей социальных структур и институтов, СМИ и т. д. [2, с. 7]. К такому же выводу приходят И.Ю. Сковронская и Б.М. Юськив: «Ключевые слова языка права – это всегда “сигналы” определенного юридического мировоззрения, выражающие духовно-нравственные идеалы общества и нравственные принципы, осознанные человеческим умом, воспринятые правовой системой и вербализованные в языке» [24, с. 327]. Правовые ценности служат оправданием норм, выступающих основанием человеческих действий, и могут носить безусловный, практический или утилитарный характер [34].
Правовые концепты, по классификации В.И. Карасика, относятся к регулятивным, выполняющим организующую функцию в формировании морально-этической ценностной основы общественных отношений и составляющим основу общественного менталитета. Характерной чертой концептов этого вида является акцентуация в них ценностного элемента, доминирование ценностной функции над когнитивной: «Познавательная функция концепта уходит на второй план, а нравственная становится наиболее важной, поскольку ей принадлежит регулятивная роль в масштабе общественной жизнедеятельности» [11, с. 13–14]. Нравственная функция регулятивных концептов реализуется через принуждение: «В регулятивных концептах... изначально заложена идея прескрипции – ориентира на некую норму, шаблон, конвенцию, определяющего фреймовые сценарии и культурные доминанты поведения человека в социуме. <...> Прескриптивные импульсы... как бы задают линию поведения личности в этнокультурном коллективе, ориентируют ее на подчинение соответствующим правилам или устоявшейся системе отношений. В регулятивных концептах заложен кодекс жизненных установок человека, упорядочивающих его поступки и действия в мире» [22, с. 50]. Лингвистический анализ лексем, сохранивших в своих значениях компоненты, отсылающие к обрядово-ритуальным формам культуры и кодифицированным обычаям, обнаруживает генетическую связь закона с различными формами социокультурного регулирования [20, c. 94].
Таким образом, правовая концептосфе-ра – это «система концептов, выполняющих регулятивную роль в организации и жизни общества», центральным элементом которой является концепт «закон» [30, с. 107]. Место закона как базовой категории для правовой понятийной области признают как сторонники легизма, отождествляющие право и закон в широком смысле (включая в него правовой обычай и судебный прецедент), так и отрицающие такое отождествление представители «юридического правопонимания» (независимо от того, признают ли они, что право как «независимое онтологическое образование» не совпадает с понятием закона [2], или утверждают, что «за словами “право” и “закон” стоят не разные по своей предметной, онтологической сути явления, а разные гносеологические подходы к пониманию права» [17]).
Сопоставление эквивалентных концептов в разных языках и культурах позволяет выявить особенности не только когнитивной деятельности, но и ценностной ориентации людей, принадлежащих к этим концептосферам. Как и правовой концептосфере в целом, концепту «закон» присуща двойственность, единство духовно-нравственного и юридического содержания. Сравнительное исследование концепта «закон» в русской и английской лингвокуль-турах, проведенное И.В. Палашевской, показало, что в англоязычной культуре закон воспринимается как гарант свободы , тогда как в русскоязычной – как ее ограничитель [21].
Историко-филологическое толкование этого различия связано с тем, что в русском языке на развитие семантики лексемы «закон» повлияла ее диалектическая связь с анахронизмом «покон» (обычай). С одной стороны, эти лексемы являются антонимами (отсюда противопоставление «по закону, а не по обычаю»); с другой стороны, между ними есть общее: оба эти слова использовались (например, в тексте Русской Правды) в значении предела, ограничивающего свободу воли и действий, а также в значении правила, установления, обязательства, регламентирующих отношения между людьми [23, с. 39]. По мере христианизации славянства и вовлечения термина «закон» в церковную речь он дополнился такими смыслами, как «установление от Бога», «покаянное правило», «церковный брак» [29], а использование его в качестве общего названия установленных властью (государством) норм привело к спецификации «юридический закон». Однако эта дальнейшая дифференциация и дополнение первоначальных определений закона новыми смысловыми коннотациями не изменили «ограничительной» сути концепта «закон» в русском языке.
Историки права при объяснении этого факта указывают на специфику отечественной религиозно-философской (православной) антропологии с ее подходом к оценке человека «не по деяниям его, а сквозь них, по принципу “неважно, что ты делаешь, важно, кто ты есть”» [18, с. 399]. Воспринятый в дальнейшем российской философско-правовой мыслью этот критерий оценки человека предопределил ее «высокомерное презрение» к юридической культуре Запада, в которой человек – это прежде всего совокупность его поступков [25, с. 232].
Однако объяснение культурно обусловленных различий в понимании закона остается неполным без анализа структуры концепта «закон» в качестве ментального образования с доминирующим аксиологическим началом.
Не существует единой теории, однозначно определяющей структуру концепта. Модель концепта может быть как нуклеарной (когда в описании выделяются прототипическое ядро и интерпретационное поле), так и иерархической (когда базовый слой (образ) дополняется когнитивными признаками концепта – характеристиками отдельных аспектов, образующими концептуальные слои). В.И. Карасик предла- гает в качестве структурных элементов выделять образную, понятийную и ценностную стороны концепта [14].
Примем предложенную В.И. Карасиком структуру концепта за теоретическую основу дальнейшего анализа, но с той оговоркой, что существенная для многих концептов образная сторона – чувственно воспринимаемые характеристики связанных с концептами предметов – для правовой концептосферы мало значима. Для понимания концепта «закон» значительно важнее его отличие от соответствующего понятия, тот факт, что концепт не только мыслится, но и эмоционально переживается и оценивается: «Концепт – это идея, включающая не только абстрактные, но и конкретно-ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки» [13, с. 5].
В качестве элемента правовой концептос-феры концепт «закон» как «пучок» сопровождающих слово «закон» представлений, понятий, знаний, ассоциаций и переживаний [27] также шире юридического определения закона как нормативно-правового акта. В структуре концепта «закон» значимы две стороны: понятийная сторона (дефиниция, описание, обозначение концепта, а также его сопоставительные характеристики с другими концептами [14]) и предметная сторона (обычно эту сторону концепта обозначают как предметно-образную, однако, как уже было сказано, особенности протекания правовой коммуникации таковы, что концепт «закон» является логически сконструированным, а его образность – стертой) [32, с. 28].
Понятийная сторона концепта «закон» представлена кодифицированной нормой, установленной и поддерживаемой государственной властью и традицией и отражающейся в дефинициях [32, с. 27–28]. Впервые на Руси кодификация была применена в Русской Правде. По своему характеру она была синкретической, сводной, поскольку в нее вошли нормы из самых разных источников. Главным источником послужила византийская кодификация, формулировки и принципы разбиения на статьи которой, в свою очередь, оформились под двойным влиянием римского права и христианской проповеди, по причине чего в ней сочетались признаки юридического трактата и религиозно-нравственного назидания [15]. Таким образом, кодификация в русском праве изначально не была самобытной и носила заимствованный характер, а потому с ней не может быть связана специфичность русского концепта «закон», его радикального иного толкования в сравнении с эквивалентным концептом в западной культуре (и английском языке).
Полагаем, что причину ментальных различий в трактовке концепта «закон» в России и на Западе нужно искать в его предметной стороне. Она представлена логической структурой правовой нормы, обеспечивающей возможность деонтической квалификации (нормативной оценки) значимого с точки зрения права поступка субъекта и возможность наложения санкций в случае нарушения правовой нормы [12; 21]. Норма связана с категорией должного – ключевой категорией деонтической логики, созданной финским логиком Георгом Хенриком фон Вригтом для изучения законов, которым подчиняются рассуждения, использующие и обосновывающие нормы (моральное, правовое, экономическое и т. п.). Деонтическая логика Вригта описывала не абстрактно-логический, а реальный мир социальных ситуаций и человеческих действий. По его мнению, необходимость, приписываемая принципам и законам логики, не основана на какой-либо предустановленной логической структуре мира, но проистекает из позиции, которую мы занимаем по отношению к конкретным утверждениям и стоящим за ними ситуациям [33]. Конкретные модели деонтической логики (каждая из которых является вариантом реализации вригтовской идеи создания логики ситуаций, человеческих действий и оценок) различаются содержательными трактовками должного , которым соответствуют интересующие нас модели деонтической модальности.
В первой модели должное понимается как идеал, а норма представляет собой безличную формулировку безусловного обязательства, вменения или запрета без указания персонального агента действий, условий совершения действия, санкций и авторитета нормы. Эта модель деонтической модальности, описанная учеником Вригта Яакко Хинтиккой, носит название стандартной семантики норм. Должному как идеалу соответствует в ней формула «должно быть», а нормы фиксируются модальными операторами «обяза- тельно», «разрешено», «запрещено» [16]. Именно к этой модели тяготеет русская культура, ориентированная на идеал как на то, что «должно быть», и ее правовая сфера, в которой доминируют безличные нормы.
В деонтической логике этой модели соответствует возможный мир, описываемый стандартной семантикой норм Я. Хинтик-ки . Описание осуществляется при помощи квалифицирующих деонтических модальностей и не предполагает спецификации (различения) событий, действий и отношений: события и человеческие действия рассматриваются как однопорядковые, однородные явления, между которыми нет разницы, так что логика событий указывает на стоящие за ними действия.
Подход, в котором события как изменения состояний отождествляются с последствиями действий и могут рассматриваться как ключ к их пониманию, был обоснован Г.Х. фон Вригтом: «Важнейшая особенность совершенных действий и вызванных следствий состоит в том, что они являются изменениями (событиями). Изменение – это переход от одного положения дел к другому. Результат (а также последствия) можно отождествить с самим изменением либо с его конечным состоянием» [8]. Подобное сведение действий к событиям нашло отражение в российской правовой системе, традиционно отводящей ведущую роль в раскрытии преступления следователю: его задача – восстановить событийную картину происшедшего, которая одновременно является реконструкцией и интерпретацией действий участников.
Иную трактовку должное получило в модели деонтической модальности, разработанной Ричардом Монтегю, в которой оно фиксируется формулой «должно быть сделано» и в этом качестве становится характеристикой человеческого действия, частью его логической схемы. Нормы в этой модели имеют инструментальный характер и выступают как регуляторы человеческих действий [16]. Норма уже не безлична, поскольку нельзя игнорировать информацию о том, кому она адресована, кто ее выполняет, кто является источником предписания, в каких условиях норма может быть реализована индивидуальным или групповым субъектом и т. д. В связи с этим в модели Монтегю вводится релятивизация тре- бований в зависимости от цели, средств, условий действия, а семантическая структура включает допущения, связанные с указанием на различные способы использования норм.
Обобщенная семантика норм для деонтической модальности Р. Монтегю использует практические деонтические модальности (а не квалифицирующие), которые обнаруживаются при систематическом описании действий и взаимодействий и подходят для анализа человеческой практики. В семантике такого типа деонтически возможные миры специфицируются и характеризуются не как предпочитаемые или идеальные, а как миры реальных человеческих действий и отношений . При этом важно, что по отношению к актуальному деонтически возможному миру можно рассматривать множество деонтических альтернатив, то есть таких последовательностей действий, событий или отношений, к которым приложимы принципы данного нормативного кодекса, что предполагает возможность выбора. По мнению В.И. Курбатова, в рамках такой семантики может быть реализована идея о том, что значения, приписываемые нормативным высказываниям, не ограничиваются значениями «истинно» и «ложно» [16]. Следовательно, можно построить логику норм без понятия истины, так что выбор действия из возможных (допускаемых нормативным кодексом) альтернатив остается за субъектом, который и несет за него ответственность.
Логическая схема, в которой система норм коррелирует с идеалами и использует модальные операторы «обязательно» и «разрешено», является, вероятно, исторически первичной и потому общей для русской и западной культур: на ранних этапах исторического развития в них одинаково доминировало сакральное начало, с которым было связано должное/истинное. Однако в дальнейшем, в период формирования национальных государств и национального менталитета, их пути разошлись. Русская культура сохранила тяготение к «лейбницевской линии» в деонтической логике, где норма понимается как пред-почитаемое/идеальное положение дел, трудно приложимое к конкретным действиям, которые никогда не «дотягивают» до идеала. Напротив, в западной культуре со временем стала преобладающей логическая модель, соответствующая в деонтической логике «линии Бентама – Малли», где нормы имеют инструментальный характер и выступают регуляторами и гарантами человеческих действий, направленных на реализацию цели/замысла [16]. Содержанием нормы в этой модели становится не объективное описание состояния/ положения дел, а регламентация субъективного действия. Больше деонтическая логика от этой линии уже не отступала: в своем дальнейшем развитии она все больше ориентировалась на практические и прикладные задачи, на поиск новых способов определения основных деонтических понятий «долженствование», «разрешение» и «запрещение». При создании новых моделей деонтической логики эти модальности вводились так же, как они вводятся в реальных нормативных кодексах – при помощи констант, обозначающих либо угрозу/санк-цию, либо уклонение от них [9].
Таким образом, утвердившаяся и господствующая в культуре модель деонтической модальности и заданная ею семантика возможного мира определяют содержание и оценку концепта «закон» в конкретной национальной и профессиональной концептосфере. Это заставляет при сопоставлении концепта «закон» в различных лингвокультурах выходить за рамки денотации, задающей истинность или ложность предложений: «Концепт всегда обладает той истиной, которую получает в зависимости от условий своего создания» [10, с. 40]. Признание содержательной связи между концептом «закон» и трактовками понятий «должное» и «норма» в различных моделях деонтической логики предостерегает нас от попыток механического перенесения смыслов, моделей и оценок при культурных и социальных заимствованиях в правовой сфере. Любые реформы и модернизации в этой области, даже если они осуществляются с использованием готовых образцов, будут жизнеспособными только при условии творческого развития культурой собственного символического универсума.
Список литературы Содержательная связь между концептом "Закон" И трактовками понятий "Должное" И "Норма" В различных моделях деонтической логики
- Арутюнова, Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт / Н. Д. Арутюнова. - М.: Наука, 1988. - 341 с.
- Бакулина, С. Ю. Концептосфера права как фактор гуманизации культуры: дис.... канд. филос. наук / Светлана Юрьевна Бакулина. - СПб., 2012. - 194 с.
- Балмагамбетова, Ж. Т. Понятие концепта в лингвокогнитологии и лингвокультурологии / Ж. Т. Балмагамбетова, А. А. Нургалиева // Актуальные проблемы филологии: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февр. 2016 г.). - Краснодар: Новация, 2016. - С. 83-87. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://moluch.ru/conf/phil/archive/177/9592/ (дата обращения: 10.02.2018). - Загл. с экрана.
- Бердяев, Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. - М.: Наука, 1990. - 224 с.
- Брайчевский, М. Ю. Утверждение христианства на Руси: пер. с укр. / М. Ю. Брайчевский. - Киев: Наукова думка, 1989. - 97 с.
- Вежбицкая, А. Семантика, культура и познание: общечеловеческие понятия в культуроспецифичных контекстах / А. Вежбицкая // THESIS. - 1993. - Вып. 3. - С. 185-206.
- Воркачев, С. Г. Постулаты лингвоконцептологии / С. Г. Воркачев // Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. - Волгоград: Парадигма, 2005. - Т. 1. - 352 с.
- Вригт, Г. Х. фон. Объяснение и понимание / Г. Х. фон Вригт. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.bim-bad.ru/docs/von_wright_explanation_understanding.pdf (дата обращения: 12.01.2018). - Загл. с экрана.
- Герасимова, И. А. Логика деонтическая. Гуманитарная энциклопедия / И. А. Герасимова, Е. Н. Лисанюк, А. И. Миков; Центр гуманитарных технологий, 2002-2018. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://gtmarket.ru/concepts/6968 (дата обращения: 08.02.2018). - Загл. с экрана.
- Делез, Ж. Что такое философия? / Ж. Делез, Ф. Гваттари / пер. с фр. и послесл. С. Н. Зенкина. - М.: Ин-т эксперим. социологии; СПб.: Алетейя, 1998. - 288 с.
- Карасик, В. И. Базовые характеристики лингвокультурных концептов / В. И. Карасик, Г.Г. Слышкин // Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. - Волгоград: Парадигма, 2005. - Т. 1. - С. 13-15.
- Карасик, В. И. Концепт «закон» в английской и русской паремиологии / В. И. Карасик, И. В. Палашевская // Гуманитарные исследования. - 2001. - № 3. -C. 63-72.
- Карасик, В. И. Лингвокультурная концептология / В. И. Карасик, Н. А. Красавский, Г. Г. Слышкин. - Волгоград: Парадигма, 2009. - 115 с.
- Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. - М.: Гнозис, 2004. - 390 с.
- Ключевский, В. О. Курс русской истории. Лекция 15 / В. О. Ключевский. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.portalus.ru/modules/rushistory/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1228972016&archive=1309634993&start_from=&ucat=& (дата обращения: 03.02.2016). - Загл. с экрана.
- Курбатов, В. И. Действия и нормы: исследование по логике деонтических модальностей: дис.... канд. филос. наук / Владимир Иванович Курбатов. - М., 1983. - 138 с.
- Лапаева, В. В. Легизм как тип правопонимания / В. В. Лапаева // Законодательство и экономика. - 2007. - № 6. - С. 10-19.
- Лапаева, В. В. Правопонимание как основа национальной правовой культуры (Сравнительный анализ российской и западноевропейской правовой мысли) / В. В. Лапаева // Диалог культур и партнерство цивилизаций: становление глобальной культуры: X Междунар. лихачев. науч. чтения, 13-14 мая 2010 г. - СПб.: СПбГУП, 2010. - С. 399-400.
- Омельченко, Н. А. Проблемы легитимации политической власти в современной России: от теории к практике / Н. А. Омельченко, Ф. М. Гасратова // Politbook. - 2015. - № 4. - С. 36-55.
- Палашевская, И. В. Закон // Антология концептов / И. В. Палашевская; под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. - Волгоград: Парадигма, 2005. - Т. 1. - С. 92-110.
- Палашевская, И. В. Концепт «закон» в английской и русской лингвокультурах: дис.... канд. филол. наук / Ирина Владимировна Палашевская. - Волгоград, 2001. - 196 с.
- Приходько, А. Н. Концепты и концептосистемы / А. Н. Приходько. - Днепропетровск: Издатель Белая Е.А., 2013. - 307 с.
- Сичинава, Н. Г. Слово «закон» в древности и сегодня / Н. Г. Сичинава // Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. В. Ю. Меликян. - Вып. 3. - Ростов н/Д: Дониздат, 2013. - С. 38-43.
- Сковронская, И. Ю. Лексико-семантические вариации правовой концептосферы / И. Ю. Сковронская, Б. М. Юськив // Вiсник Нацiонального унiверситету «Львiвська полiтехнiка». Серiя: Юридичнi науки. - 2016. - № 837 (9). - С. 326-331.
- Соловьев, Э. Ю. Прошлое толкует нас / Э. Ю. Соловьев. - М.: Политиздат, 1991. - 432 с.
- Степанов, Ю. С. Константы: Словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. - Изд. 3-e, испр. и доп. - М.: Акад. проект, 2004. - 991 с.
- Тихомиров, Ю. А. Право: национальное, международное, сравнительное / Ю. А. Тихомиров // Государство и право. - 1999. - № 8. - С. 5-12.
- Тихомирова, Л. В. Юридическая энциклопедия / Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров; под ред. М. Ю. Тихомирова. - М.: Юринформцентр, 1997. - 526 с.
- Трубачев, О. Н. В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси / О. Н. Трубачев. - М.: Наука, 2005. - 286 с.
- Федулова, М. Н. Система концептов в юридическом дискурсе / М. Н. Федулова // Вопросы психолингвистики. - 2017. - № 4 (34). - С. 106-115.
- Хаванская, А. В. Концепция правового либерализма и формы ее реализации в политическом процессе современной России: дис.... канд. полит. наук / Анна Валерьевна Хаванская. - Оренбург, 2002. - 149 с.
- Храмцова, Н. Г. Концепты «закон» и «субъект права» в правовом дискурсе / Н. Г. Храмцова // Общество и право. - 2007. - № 4 (18). - С. 27-32.