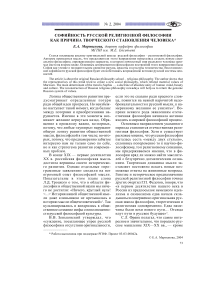Софийность русской религиозной философии как причина творческого становления человека
Автор: Мартынова Е.А.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Философия образования
Статья в выпуске: 2 (35), 2004 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу оригинальной школы русской философии - религиозной философии. Автором проводится мысль, что представители этого направления попытались создать новую социальную философию, опровергающую марксизм, в котором личностный мир реального человека занимал место на втором плане. Основным детерминантом философских построений этого направления была София как учение о положительном единстве разума, красоты и культуры человечества. Восстановление софийности русской философии будет способствовать возрождению истинно русской системы ценностей.
Короткий адрес: https://sciup.org/147135900
IDR: 147135900
Текст научной статьи Софийность русской религиозной философии как причина творческого становления человека
Статья посвящена анализу оригинальной школы русской философии - религиозной философии. Автором проводится мысль, что представители этого направления попытались создать новую социальную философию, опровергающую марксизм, в котором личностный мир реального человека занимал место на втором плане. Основным детерминантом философских построений этого направления была София как учение о положительном единстве разума, красоты и культуры человечества. Восстановление софийности русской философии будет способствовать возрождению истинно русской системы ценностей.
The article is about the original Russian philosophy school - religious philosophy. The author shows that the representatives of this trend tried to create a new social philosophy, which refuted material values of Marxism. The main determinant of the trend is Sophia — a doctrine of absolute unity of human mind, beauty and culture. The reconstruction of Russian religious philosophy nowadays will help us to return the genuine Russian system of values.
Логика общественного развития предусматривает определенные потери ради общей идеи прогресса. Но неизбежно наступает такой момент, когда баланс между потерями и приобретениями нарушается. Именно в эти моменты возникает желание вернуться назад. Обращение к прошлому важно, во-первых, потому, что любые «купюры» нарушают общую логику развития общественной мысли, философской в том числе; во-вторых, потому, что преднамеренно забытое интересно нам не только само по себе, но и как стратегема развития современных проблем.
В конце XIX — первые десятилетия XX в. российская философская мысль достигла вершины своего исторического развития. Однако отдельные «программные заявления» сводили на нет огромный опыт философской мысли. Показательны в этом плане слова Л.Д. Троцкого о том, что в области философии и общественной науки мы ничего не достигли: «Ничего, круглый нуль! <...> История нашей общественной мысли даже клинышком не врезывалась в историю мысли общечеловеческой»1. Так культивировались и внедрялись в общественное сознание мифы о неполноценности русской философской культуры.
В.В. Зеньковский утверждал, что «суждение, посылающее упрек русской философии в отсутствии оригинальности, если это не сказано ради красного словца, покоится на некоей нарочитой недоброжелательности к русской мысли, к намеренному желанию ее унизить»2. Вопреки всякого рода заявлениям отечественная философия начинала активно входить в мировой философский процесс.
Основным направлением указанного периода становится отечественная религиозная философия. Хотя и существует расхожее мнение, что русская философия пыталась сесть «между двух стульев», склоняясь попеременно то к научно-философскому, то к религиозному сознанию, мы придерживаемся мнения, что в философии вряд ли можно найти мыслителей с безупречно догматическим сознанием. Творческая динамика мысли заставляет постоянно искать новые возможные ответы на жизненные вопросы. Генезис и историческое предназначение русской религиозной философии точнее других очертил Г.П. Федотов, говоря, что «в первом десятилетии нашего века в России из предпосылок немецкого идеализма и символизма едва начала складываться совершенно оригинальная русская школа философии, теоретическая и религиозная одновременно. Едва намечены были вехи нового пути... Отсюда идут пути в русское будущее»3.
С.Л. Франк полагал, что самое интересное и значительное, что породило русское мышление XIX—ХХ вв., — кроме
самой религиозной философии — принадлежит к области исторической и социальной философии; самые глубокие и типичные русские религиозные мысли высказывались в рамках исторического и социально-философского анализа. Именно поэтому в русской литературе едва ли можно отделить религиозную философию от исторической, социальной и культурной философии, их необходимо рассматривать вместе4. Философия в свете данной традиции предстает не просто как полезное приобретение разума, носящего инструментальный, прагматический характер, но и как высшая духовная ценность. Она является не абстрагированным, обезличенным, отстраненным видом познания бытия, но, напротив, личностно укорененным, связанным со всем существом человека драматическим сопереживанием реальности.
Русские мыслители создали, по сути, новую социальную философию, опровергающую марксизм, в котором личностный мир реального человека, возвышающийся над материальным мир нравственный и духовный занимал место на втором плане. Представляя беспримерное богатство начала XX в. в благах внешней, материальной культуры, марксизм в плане душевной силы, свежести и веры не богаче, а беднее предыдущих учений. При этом системы религиозной философии, создавая «антитезис» марксизму, оставались необычайно «академичными и толерантными» по отношению к нему.
Возросший в последние годы интерес к наследию российских философов конца XIX — начала XX в., на наш взгляд, обусловлен многими причинами, основными среди которых можно считать три.
Во-первых, обращаясь к русской философской мысли указанного периода, понимаешь, что выдающиеся русские мыслители, писатели, философы, поэты уже пытались, и небезуспешно, ответить на многие вопросы, которые волнуют нас сегодня. Их идеи о вечных, незыблемых началах человеческой жизни и об их преломлении в условиях России остались совершенно невостребованными с точки зрения обоснования современного российского жизнеуклада. С.Л. Франк в «Духовных основах общества» писал, что
«социальная философия исходит из допущения наличия в общественной жизни вечных, неизменимых, имеющих силу при всяком историческом порядке закономерностей и старается их познать. Прежде чем приступить, по существу, к разрешению этой задачи, мы должны уяснить себе, в чем заключаются общие свойства таких закономерностей, каковы собственно те необходимые связи, которые здесь имеют место и подлежат нашему изучению»5.
Во-вторых, до конца 80-х гг. XX в. наследие русской религиозной философии по известным причинам было практически недоступно российскому читателю. Он был лишен основного материала для философских размышлений — трудов отечественных философов С.А. Аскольдова, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, А.С. Изгоева, Б.А. Кистяковского, Н.О. Лосского, В.С. Соловьева, П.Б. Струве, С.Л. Франка и многих других. В последние 20 лет значительный массив текстов русских мыслителей был опубликован в России, но русская религиозная философия так и не стала важным фактором нашей интеллектуальной и общественной жизни. Возникает другая проблема — интерес к этим изданиям быстро утрачивается.
Между тем от возвращения сочинений русских философов до их полного творческого освоения — дистанция огромного размера. Сегодня нам явно недостает проблемного анализа творчества русских мыслителей. Сожаления по этому поводу находим у многих отечественных философов. С.С. Xоружий, в частности, отмечает, что «задача русской философии сегодня — восстановить контекст, начать вновь с того, где когда-то остановились, чтобы обрести вновь утраченное пространство мысли путем возвращения к традиции, не только возрождая преданные забвению имена, но и выявляя то положительное содержание русской философии, которое ныне особенно актуально»6. А.Л. Доброхотов сетует: «Остается лишь ждать появления нового поколения исследователей, которому будет интересно не „самовыразиться“, а внимательно всмотреться в предмет философского знания, неторопливо и тщательно собрать материал и, если повезет, сделать шаг к тому, что может быть „точкой зрения“, а то и самим знанием»7.
Здесь нас подстерегает опасность следующего характера: попытки перевести философское понятие в политический призыв, что безнадежно извращает его смысл. Нам необходим академичный, «беспартийный» анализ, который способствовал бы преодолению политико-идеологического прочтения русской философии. Эта философия должна стать предметом глубокого научного рассмотрения. А всмотреться есть во что. Словами Н.А. Бердяева, философию того периода можно определить «как философию субъекта, философию духа, философию свободы, философию дуалистически-плю-ралистическую, философию творчески-ди-намическую, философию персоналисти-ческую и философию эсхатологическую»8.
В-третьих, в последнее время феномен русской религиозной философии подвергается серьезной критике, причем с разных, часто прямо противоположных, сторон. С одной стороны, многие представители философского сообщества в России и на Западе заявляют о нефилософской методологии религиозной философии. В.А. Тишков в статье «Что есть Россия? Перспективы нацие-строитель-ства», в частности, пишет: «К сожалению, не лучшую услугу отечественным интеллектуалам оказывают в целом понятный процесс „возвращения имен“ и широкая публикация текстов российских философов и публицистов конца XIX — первой трети XX в. (В. Соловьев, К. Леонтьев, В. Розанов, П. Флоренский, И. Ильин, Н. Бердяев и др.), методология которых безнадежно архаична с ее наивным романтизмом и социальным расизмом»9. На Западе русскую религиозно-философскую мысль часто никак не воспринимают по той причине, что она представляет собой якобы сугубо уникальное, локальное явление и содержательно не оригинальна. С другой стороны, хранители православия обвиняют русских философов в уклонении от него, в том, что воссоздание христианского вероучения в формах научного мышления абсолютно несостоятельно, подобная задача вредна для церковного учения.
Для одних русская религиозная философия стала предметом национальной гордости, для других — проблемой, требующей понимания, третьи ее просто не признают. При всем разнообразии отношения к этой части русского философского наследия очевидна задача понимания ее своеобразия в рамках общекультурного контекста.
Вопрос о детерминации историко-философского знания и действия — один из самых трудных. Среди многочисленных детерминантов выделяется особая группа факторов — первоначал, которые определяют как содержательные компоненты философского сознания, так и свойства самого историко-философского процесса. Ядром русской религиозной философии является София. Впервые эта мифологема появляется в ветхозаветном тексте, где София говорит: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони.. Я родилась _ когда еще Он не сотворил. когда Он уготовлял небеса. утверждал вверху облака. полагал основания земли: тогда я была при Нем художницею». Это принцип красоты в Боге. Софийное начало мира противостоит ее приверженности стихиям зла, греха.
В.С. Соловьев определил Софию как «живое духовное существо, обладающее всею полнотою сил и действий», как универсальную субстанцию, ангела-хранителя мира. В софиологии С.Н. Булгакова она предстает как мир идей, идеальный образ мира, присущая Богу мысль о твар-ном мире, как посредница, грань между бытием и сверхбытием. Софийность принадлежит к разряду тех фундаментальных начал, которые не постигаются последовательно и полностью в процессе познания, но всегда остаются неисчерпаемой темой философского размышления.
Еще одно видение Софии рисует ее как промежуточное бытие между Богом и миром, существующую в двух ипостасях: земной и Божественной. Обычно с ней соотносятся пантеистические компоненты — мир в Боге, мировая душа. Это пантеистическая связь абсолютного и эмпирического начал бытия. Учение о Софии рассматривалось «как положительное единство, где воедино связаны разум, красота, хозяйство и культура человечества. Человек при этом становился носителем Софии»10.
Почему же религиозные философы отдавали предпочтение концепту «София», а не концепту «логос»? На наш взгляд, последнее подразумевает исключительно теоретическое знание, а первое демонстрирует сосредоточие и научного знания, и «постижения умом вещей по природе наиболее ценных». Концептуальные построения русских религиозных философов тяготеют к первой схеме.
Современная философия до недавнего времени являла нам образец отторжения Софии как выразительницы сакраль-ности, духовности, утонченности, человечности. Ее место занимало пустое историческое пространство, центром которого часто становилась политическая составляющая, а не духовная. Восстановление софийности русской философии свидетельствует о возрождении истинно русской системы ценностей.
Одним из не востребованных до сих пор источников религиозной философии начала XX в., где отчетливо прослеживается выделеная проблема, являются «Вехи». Исследователи определяют содержание сборника как один из элементов в русском интеллектуальном наследии, который не может рассматриваться как открывающий путь тоталитаризму, советизации и который может быть приемлемым для тех, кто не хочет отказываться от надежд на политическое и культурное возрождение России. Но отношение к «Вехам» как к одной из попыток национального самопознания осложнено теми же причинами, которые тормозили постижение всего массива русской религиозной философии: кто раньше штудировал методологию ленинской критики сборника «Вехи», теперь поет дифирамбы самим «веховцам». К сожалению, такие дифирамбы оказываются искаженным взглядом на ту работу, которую проделали «веховцы» для русского самопознания.
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, М.О. Гершензон, А.С. Изгоев, Б.А. Ки-стяковский, П.Б. Струве, С.Л. Франк были первыми из русских мыслителей, кто сумел предвидеть последствия идейной борьбы, которые неизбежно должны были наступить в случае разложения социальных реалий изнутри. Единого «мозгового центра» среди философов не было.
Каждый из них представлял собой оригинальный самостоятельный разум. Даже «Вехи» — результат их совместных интеллектуальных усилий — не отражают единства мнений по всем проблемам. Но были вопросы, обнаружившие максимум согласия авторов сборника на момент его написания. Веховцы внесли большой вклад в философскую традицию осмысления таких понятий, как «интеллигенция», «национальное самосознание», «власть», «народ», «революция», «культура», «цивилизация», «моральное сознание», «правовая культура», «философия образования». Можно говорить об определенной веховской философской традиции, рефлексия которой подразумевает следующие моменты: анализ феномена российской интеллигенции; осмысление системы ценностей и идеалов, которыми она жила на протяжении более полувека и ложность которых вела ее по гибельному пути; пересмотр традиционной политики либерализма, в основу которой веховцы заложили отказ от идеи примата внешнего устройства общественной жизни; принятие веховцами как основополагающей идеи внутреннего совершенствования человека; признание неперспективности общественной трансформации, не затрагивающей сферу морали, права, образования и других аспектов духовной жизни человека.