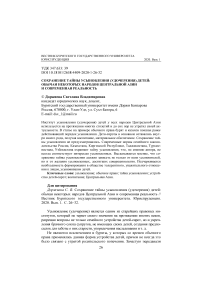Сохранение тайны усыновления (удочерения) детей: обычаи некоторых народов Центральной Азии и современная реальность
Автор: Доржиева Светлана Владимировна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence
Рубрика: Актуальные вопросы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
Институт усыновления (удочерения) детей у всех народов Центральной Азии используется на протяжении многих столетий и до сих пор не утратил своей актуальности. В статье на примере обычного права бурят и казахов показан ранее действовавший порядок усыновления. Дети-сироты в основном оставались внутри своего рода, получая воспитание, материальное обеспечение. Сохранение тайны усыновления не предусматривалось. Современные нормы семейного законодательства России, Казахстана, Киргизской Республики, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана охраняют тайну усыновления, что, по мнению автора, не всегда соответствует интересам усыновленных. Высказывается мнение, что сохранение тайны усыновления должно зависеть не только от воли усыновителей, но и от желания усыновленных, достигших совершеннолетия. Подчеркивается необходимость формирования в обществе толерантного, уважительного отношения к лицам, усыновившим детей.
Усыновление, обычное право, тайна усыновления, устройство детей-сирот, воспитание, центральная азия
Короткий адрес: https://sciup.org/148316978
IDR: 148316978 | УДК: 347.633: | DOI: 10.18101/2658-4409-2020-1-26-32
Текст научной статьи Сохранение тайны усыновления (удочерения) детей: обычаи некоторых народов Центральной Азии и современная реальность
Доржиева С. В. Сохранение тайны усыновления (удочерения) детей: обычаи некоторых народов Центральной Азии и современная реальность // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2020. Вып. 1. С. 26–32.
Усыновление (удочерение) является одним из старейших правовых институтов, который не теряет своего значения на протяжении многих веков, разрешая вопросы не только семейного устройства детей-сирот, но и укрепления брачного союза супругов, не имеющих своих детей, создания предпосылок для заботы о них старости, упорядочения наследования и т. д.
Не являются исключением и буряты, у которых со времен обычного права применялась данная форма устройства детей, причем не всегда это было связано с утратой родительского попечения. Зачастую передавали на усыновление детей по просьбе бездетных родственников, кроме этого, усыновляли детей своих многодетных родственников, оказывая им поддержку. В результате ребенок оставался в кровнородственной среде, зная о своих родителях по происхождению, братьях и сестрах, общаясь с ними, получая в случае необходимости поддержку, что способствовало укреплению рода. Усыновлялись и чужие дети. При этом тайна усыновления (удочерения) не сохранялась. Бездетные супруги, усыновившие ребенка, не чувствовали со стороны общества отрицательного отношения к ним из-за отсутствия собственных детей, семья являлась полноценной.
Так, российский просветитель, крупнейший бурятский этнограф М. Н. Хангалов, писал: «У бурят существует обычай усыновлять чужих детей, что, конечно, чаще делают бездетные буряты. Усыновляют как детей, так и взрослых. Усыновленный пользуется имуществом усыновителя как родной сын» [4, с. 195]. Выводом для этого послужили многолетние исследования ученого в конце XIX — начале XX в. юридических обычаев, семейного быта, общественного строя и многих иных областей жизни бурятского населения.
Как отмечают М. К. Абдакимова, С. К. Кенжебаева, С. А. Муликова, издревле «в отношении сирот у казахов существовал прекрасный обычай — бауырына басу. К обычаю усыновления в основном прибегали только в том случае, если семья бездетна или появляющееся потомство не выживало. Усыновляли детей близких родственников, обычно старшего или младшего братьев, по предварительной договоренности обеих сторон, но во многих случаях этот обычай распространялся на детей, оказавшихся без родителей. Усыновление, передача и прием ребенка происходили в торжественной обстановке, при участии всех аксакалов аула и родственников. После выполнения обрядовых церемоний клятвенно скреплялся договор» [1]. Следовательно, об усыновлении ребенка было известно широкому кругу лиц.
Несмотря на то, что по обычному праву у бурят и казахов, как и у некоторых других народов Центральной Азии, допускалось усыновление чужих детей, преимущество все же отдавалось усыновлению детей родственников, особенно по отцовской линии. В случае же смерти родителей, «если дети оставались сиротами, усыновить их считалось естественным и почетным даже теми, у кого были свои собственные. Поэтому в бурятских улусах дети-сироты не оставались без призрения. Приемные дети пользовались всеми теми же правами, что и собственные» [2, с. 64].
Аналогичная ситуация была и в Казахстане, так, «потеря детьми одного или двух родителей по разным причинам не приводила их к положению бесправного и лишенного имущества члена общины. Род был обязан сохранить им жизнь, вырастить и наделить имуществом» [1].
Следует отметить, что «названные традиции являются актуальными и востребованными в настоящее время, поскольку среди основных задач государственной демографической политики России значатся «укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений»1 [3, с. 18].
К сожалению, в советское время практически у всех народов Центральной Азии, проживавших в СССР, были значительно утрачены традиции предков, что наблюдается и по сей день. Это подтверждается большим количеством детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь ни у бурят, ни у казахов, как и у многих других народов Центральной Азии, не является зазорным отказаться от своего ребенка в роддоме, ненадлежащим образом выполнять родительские обязанности, не брать на воспитание детей своих родственников, в случае утраты ими родительского попечения и т. д. Все это, конечно же, обусловлено политическими, социальноэкономическими событиями, которыми полна история наших государств. В результате мы видим ослабление родовых связей, утрату выработанных тысячелетиями мер взаимной поддержки и помощи.
Вместе с тем желание знать свое происхождение неистребимо у людей любой национальности. Каждый ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей, воспитывающийся в организации для данной категории детей либо находящийся на воспитании в замещающей семье, стремится узнать своих биологических родителей и (или) родственников. Не составляют исключение и усыновленные дети, несмотря на то, что между ними и усыновителями в силу закона складываются такие же правовые отношения, как и между родственниками по происхождению. В отличие от других детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленные дети не могут свободно реализовать право знать своих родителей. Так, сохранение тайны усыновления (удочерения) предусмотрено не только ст. 139 Семейного кодекса Российской Федера-ции2 (далее — СК РФ), но и ст. 102 Кодекса о браке (супружестве) и семье Республики Казахстан3, ст. 60 Кодекса Киргизской Республики о де- тях1, ст. 139 Семейного кодекса Республики Таджикистан2, ст. 122 Семейного кодекса Туркменистана3, ст. 153 Семейного кодекса Узбекистана4.
Кроме вышеуказанной причины, усыновленные (удочеренные) дети стремятся раскрыть эту семейную тайну для исключения вероятности вступления в брак со своими близкими родственниками, профилактики или лечения наследственных заболеваний и т. д. Все перечисленное свидетельствует об объективной необходимости знать свои корни, а с учетом прежних устоев народов Центральной Азии общение с родственниками по происхождению означает еще и дополнительную поддержку, что в условиях нестабильного духовного, социально-экономического состояния общества может только приветствоваться. С удовлетворением стоит отметить, что в век урбанизации все еще остаются семьи, которые чтят традиции предков и родственные узы.
На современном этапе в России о возможности «перехода к системе открытого усыновления с отказом от тайны усыновления» было отмечено в ч. 9 п. 3 разд. 5 «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.»5. В целях реализации указанной стратегии Временной рабочей группой по совершенствованию семейного законодательства Российской Федерации при Координационном Совете при Президенте РФ в п. 47 было внесено предложение «предусмотреть действие принципа тайны усыновления ребенка только для тех случаев, когда усыновители ходатайствуют об установлении тайны усыновления. При этом лица, принимающие решение об усыновлении ребенка, осуществляющие государственную регистрацию усыновления, либо иные лица, которым стало известно об усыновлении ребенка в связи с их профессиональной деятельностью, дают подписку о неразглашении тайны усыновления данного ребенка. Предоставить совершеннолетним усыновленным детям право знать о своих родителях в случае смерти усыновителей»1. Это свидетельствует о том, что подход к повсеместному сохранению тайны усыновления понемногу меняется. В связи с изложенным представляет интерес постановление Конституционного суда РФ от 16.06.2015 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона “Об актах гражданского состояния” в связи с жалобой граждан Г. Ф. Грубич и Т. Г. Гущиной», согласно которому положения этих статей «не препятствуют предоставлению по решению суда потомкам усыновленного после смерти усыновленного и усыновителей сведений об усыновлении в объеме, необходимом для реализации ими своих конституционных прав и обеспечивающем поддержание баланса конституционно защищаемых ценностей, а также прав и законных интересов участников соответствующих правоот-ношений2.
Из вышеуказанного наблюдается более расширенный подход к сохранению тайны усыновления (удочерения). Остается надеяться на то, что со временем в России совершеннолетние усыновленные и (или) их потомки будут иметь возможность узнать о своем происхождении и при отсутствии согласия усыновителей на раскрытие тайны усыновления (удочерения) как при жизни последних, так и после их смерти, что должно найти свое нормативное закрепление в ст. 139 СК РФ.
В связи с изложенным представляют интерес положения ст. 153 Семейного кодекса Узбекистана, согласно которой, «воспрещается без согласия усыновителей, а в случае их смерти — без согласия органа опеки и попечительства ознакомление с содержанием книг регистрации актов гражданского состояния или иных документов, выдача из них выписок или иных сведений, из которых было бы видно, что усыновители не являются родителями усыновленного. Лица, разгласившие тайну усыновления против воли усыновителя или органа опеки и попечительства, несут установленную законом ответственность». Из указанной нормы следует, что в случае смерти усыновителя все же имеется возможность получить сведения об усыновлении с согласия органа опеки и попечительства. Аналогичное положение предусмотрено и в ст. 122 Семейного кодекса Туркменистана. В России такой внесудебный порядок получения информации об усыновлении фактически отсутствует. Статья 139 СК РФ предусматривает лишь ответственность судей, вынесших решение об усыновлении ребенка, или должностных лиц, осуществивших государственную регистрацию усыновления, а также лиц, иным образом осведомленных об усыновлении, за разглашение тайны против воли его усыновителей. Такие же положения действуют в вышеуказанных нормах Киргизской Республики, Республики Таджикистан, а в ст. 102 Кодекса о браке (супружестве) и семье Республики Казахстан в числе лиц, обязанных сохранять тайну усыновления (удочерения), прямо указаны также родители и родственники.
Полагаем, что в обществе необходимо формировать не просто толерантное, а уважительное отношение к семьям, усыновившим (удочерившим) ребенка, подчеркивая социальную значимость такого благородного поступка. В этом случае у многих граждан, решившихся на усыновление (удочерение), не возникнет желания сохранять данную семейную тайну. Кроме этого, совершенствование института усыновления (удочерения) не должно проходить в отрыве от обычаев и традиций народов. Укрепление родовых связей путем усыновления (удочерения) детей родственников, расширение семей в результате усыновления чужих детей будут только способствовать развитию общества.
Список литературы Сохранение тайны усыновления (удочерения) детей: обычаи некоторых народов Центральной Азии и современная реальность
- Абдакимова М. К., Кенжебаева С. К., Муликова С. А. Проблема сиротства в Казахстане: дисфункция родительства и кризис духовности [Электронный ресурс] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. Ч. 1, № 9. С. 172-176. URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7464 (дата обращения: 15.01.2020).
- Басаева К. Д. Семья и брак у бурят (вторая половина ХIХ - начало ХХ века) / отв. ред. П. Т. Хаптаев. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1980. 224 с.
- Доржиева С. В. Приемная семья: прошлое, настоящее, будущее: монография / под общ. ред. А. Н. Левушкина. М.: Проспект, 2018. 208 с.
- Хангалов М. Н. Собр. соч. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1958. Т. 1. 551 с.