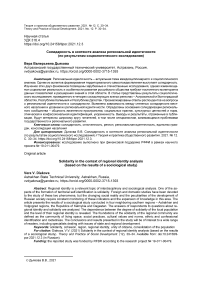Солидарность в контексте анализа региональной идентичности (по результатам социологического исследования)
Автор: Дьякова Вера Валерьевна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 12, 2021 года.
Бесплатный доступ
Региональная идентичность - актуальная тема междисциплинарного и социологического анализа. Одним из аспектов формирования территориального самоотождествления выступает солидарность. Изучению этих двух феноменов посвящены зарубежные и отечественные исследования, однако изменяющаяся социальная реальность и особенности развития российского общества требуют постоянного мониторинга данных показателей и расширения знаний в этой области. В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного в четырех соседствующих южных регионах - Астраханской и Волгоградской областях, Республике Калмыкия и Республике Дагестан. Проанализированы ответы респондентов на вопросы о региональной идентичности и солидарности. Выявлена зависимость между степенью солидарности местного населения и уровнем их региональной идентичности. Определены основания солидаризации регионального сообщества - общность жизненного пространства, социальных практик, культурных ценностей и норм, этническая и конфессиональная идентификация, укорененность. Выводы и результаты, отраженные в публикации, будут интересны широкому кругу читателей, в том числе специалистам, занимающимся проблемами государственного и регионального развития.
Солидарность, сплоченность, регион, региональная идентичность, единство граждан, консолидация населения
Короткий адрес: https://sciup.org/149138664
IDR: 149138664 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24158/tipor.2021.12.3
Текст научной статьи Солидарность в контексте анализа региональной идентичности (по результатам социологического исследования)
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия, ,
,
Проблема поиска консолидирующих скреп российского общества – злободневная тема как для отечественной науки, так и для общественных дискуссий на протяжении последних десятилетий, которая активизирует анализ аспектов социальной идентичности граждан. С точки зрения изучения процесса обеспечения национальной территориальной целостности и гражданского единства особую актуальность приобретает вопрос о региональной идентичности. В данной статье исследовательское внимание сосредоточено на солидарности как одном из аспектов региональной идентичности.
На сегодняшний момент у научного сообщества, в том числе социологов, отсутствует единый подход к определению региональной идентичности и солидарности, несмотря на то что изучению этих двух феноменов и их взаимосвязи посвящено немало как зарубежных работ (Capello, 2018; Friedkin, 2004; Paasi, 2013), так и отечественных (Кармадонов, 2015; Козлова, 1997; Корепанов, 2009). В рамках предпринятого исследования под региональной идентичностью понимаются смыслы и ценности, которые осознаются и воспроизводятся представителями локальной общности и оказывают влияние на самосознание индивида или группы (Дьякова, 2020б). Солидарность рассматривается как условие для формирования региональной идентичности (Лубя-нов, 2014), подразумевающее определенную степень сплоченности, единства членов территориальной общности.
Теоретико-методологической основой исследования солидарности как социального феномена послужили работы Ю. Хабермаса (Habermas, 2013), Р. Патнэма (Putnam, Sander, 2010), С.П. Олинера (Oliner, 2010) и др. Анализ солидарности в контексте региональной идентичности позволяет определить те параметры, по которым личность отождествляет себя с региональной общностью, ощущает связь с жителями, формируется чувство единства.
В 2020 г. проведено социологическое исследование в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях, посвященное анализу различных аспектов регионального самосознания. В рамках проекта использованы методы анкетирования (опрошено 1 231 чел. в возрасте 18–75 лет, доля распределения выборочной совокупности по регионам равна 24,8 % (±0,4); выборка – многоступенчатая с применением квотных значений по взаимосвязанным параметрам – полу, возрасту, месту проживания), экспертного опроса (приняли участие ученые, представители общественных организаций, государственных и муниципальных структур, всего 41 чел.), фокус-групп ( n = 6, количество участников в одной группе – 10–12 чел. в возрасте 18–75 лет, четыре группы – с участниками из каждого региона отдельно, две – смешанный состав участников по регионам). Указанные регионы, расположенные на Юге страны, имеют общие границы, но разные социально-экономические особенности и национальный состав, что, по мнению организаторов исследования, позволяет найти общее и особенное в структуре региональной идентичности. В рамках публикации освещены результаты, по которым выявлены сходные характеристики, отражающие так называемые точки соприкосновения по четырем субъектам РФ в рамках анализа солидарности как аспекта локального самоотождествления.
По итогам исследования подтверждена прямая зависимость между степенью солидарности местного населения и уровнем их региональной идентичности. Чем чаще респонденты отмечали наличие чувства солидарности с жителями региона, тем больше идентифицировали себя с региональной общностью. Причем этот вывод верен для каждого из четырех регионов – Волгоградской и Астраханской областей, Республики Дагестан и Республики Калмыкия. Связь между солидарностью и региональной идентичностью также наблюдалась в рамках других исследований (Демичев, 2019; Дроздова, Мартинсон, 2020; Дьякова, 2020а).
Большинство респондентов утвердительно ответили на вопрос «Чувствуете ли Вы солидарность с жителями региона?». Самый высокий показатель у опрошенных в национальных республиках – Дагестане (57,6 %) и Калмыкии (64,2 %). Каждый второй житель Астраханской области ощущает эту связь. Самая низкая доля у волгоградцев – 42,3 %. Затруднились ответить на вопрос каждый третий житель Дагестана и Волгоградской области, в Калмыкии и Астраханской области – каждый четвертый. Не чувствуют солидарности с жителями своего региона в Калмыкии 9,0 %, Дагестане – 10,9, Астраханской области – 23,5, Волгоградской – 26,6 %.
На вопрос «Хотелось бы Вам, чтобы между жителями Вашего региона было больше солидарности?» положительные ответы в каждом из субъектов РФ преобладали по сравнению с данными по предыдущему вопросу. В Калмыкии вариант «да» выбрали 79,1 %, Астраханской области – 70,7, Дагестане – 67,3, Волгоградской области – 59,7 %. Затруднились ответить примерно каждый пятый в Калмыкии, каждый четвертый – в Астраханской области, каждый третий – в Дагестане и Волгоградской области. Около 5,0 % респондентов в каждом из регионов отметили, что не хотели бы повышения уровня солидарности между жителями.
Относительно высокая степень солидарности в регионах и еще более значительные показатели ориентированности местных жителей на солидаризацию свидетельствуют о высоком региональном самосознании, наличии общих интересов, желании совершать коллективные действия. Согласно мнению Ю.А. Дроздовой (2011), солидарные отношения могут стать основой для регулирования отношений внутри региона, управленческой стратегии регионального развития. Именно поэтому важно не только замерять уровень солидарности, но и анализировать ключевые параметры, ее характеризующие.
В рамках экспертных опросов и фокус-групп были уточнены те ценности и смыслы, которые могут выступать основаниями возникновения солидарности в региональном сообществе. Стоит отметить, что этот список получился довольно обширным, в контексте данной публикации описаны главные группы этих признаков, названные большинством участников исследования.
Первое - это общее жизненное пространство. Жители региона сосуществуют в рамках одного административно-территориального пространства, которое имеет свои физические (географические границы, региональный центр, села и деревни с конкретными названиями, инфраструктура, климат) и социальные (личностные и групповые идентичности, например «астраханцы», «волгоградцы», «жители Дагестана», «жители Калмыкии», государственные и муниципальные структуры управления и др.) параметры: « Дагестан - это родина! Только здесь и горы, и море, а люди какие » (Дагестан, женщина, 23 года); « Живем в одной республике, дышим одним воздухом » (Калмыкия, мужчина, 44 года); « Мы живем на одной земле » (Астраханская область, мужчина, 36 лет); « У нас в регионе есть свои проблемы, которые другим не понять, но и хорошее у нас тоже есть, вот... Родина-мать только у нас, ее во всем мире знают » (Волгоградская область, женщина, 26 лет).
Второе - общность социальных практик, которая, очевидно, является следствием общего жизненного пространства: « Только горцы поймут горцев » (Дагестан, мужчина, 53 года); « Мы растим детей все вместе, школы, садики примерно одинаковые, ритм и уровень жизни примерно похожи у всех, у кого-то лучше, у кого-то хуже » (Калмыкия, женщина, 3б лет); « Особенно когда стоим в огромной пробке в переполненной маршрутке и опаздываем на работу из-за того, что другую дорогу в очередной раз закрыли на ремонт » (Астраханская область, женщина, 30 лет); « Во власти сейчас местные, а не то, что было, понаехали, во власти должны быть только местные, а кто еще поймет наши проблемы лучше и сможет их решить, кроме тех, кто здесь всю жизнь прожил » (Волгоградская область, мужчина, 68 лет).
Третье - этническая и конфессиональная идентификация. Для национальных республик эти вопросы являются одними из основополагающих при оценке регионального самосознания и региона в целом. Стоит отметить, что в Калмыкии региональная идентификация формируется в рамках титульной нации и одной религии, в то время как для Дагестана характерно многообразие коренных народов. Астраханская и Волгоградская области отличаются многонациональным составом с доминирующей долей русского населения и историческим опытом полиэтничного и по-ликонфессинального сосуществования местных жителей. « У нас одна религия » (Дагестан, мужчина, 52 года); « Мы все мусульмане » (Дагестан, мужчина, 22 года); « У нас одна религия » (Калмыкия, мужчина, 62 года); « У нас так много национальностей, и мы прекрасно и давно дружно живем. Праздники отмечаем вместе, к русским ходят на Пасху, а беляши вообще все любя т» (Астраханская область, женщина, 48 лет); « Мы вместе страну защищали, вместе с Союзе жили, вместе и сейчас живем » (Волгоградская область, мужчина, 66 лет).
Четвертое - общие культурные ценности и нормы, характерные для членов данного регионального сообщества: « Общность менталитета, культурных особенностей, которые исторически сложились в регионе » (Дагестан, женщина, 53 года); « Я чувствую солидарность с жителями Калмыкии, так как у нас одни взгляды » (Калмыкия, женщина, 26 лет); « У нас общее историческое прошлое, язык, культура » (Калмыкия, мужчина, 64 года); « Мы же земляки, у нас общие ценности, взгляды, да и проблемы общие » (Астраханская область, мужчина, 70 лет); « На 9 Мая чувствуется это единство, мы все вместе, и семья, и волгоградцы, и россияне » (Волгоградская область, женщина, 56 лет).
Пятое - укорененность местного населения, т. е. на территории данного региона проживает не одно поколение. Жизнь семьи, ее история тесно связаны с жизнью региона. Это может быть дом, в котором жили еще прадедушка с прабабушкой, микрорайон, где твои родители с детства знают родителей всех твоих друзей, и т. д.: « У меня все семья здесь, здесь хорошо, сын тоже здесь живет, помогает, вырастет, рядом дом свой построит » (Дагестан, мужчина, 36 лет); « Отучилась в другом городе и вернулась, дома хорошо, и стены помогают » (Калмыкия, женщина, 30 лет); « Я здесь родился, здесь и умру. Похоронят рядом с родственниками » (Астраханская область, женщина, 71 год); « Здесь семья, все родственники, на все праздники вместе, помогаем друг другу » (Волгоградская область, женщина, 38 лет).
Отдельно стоит упомянуть о доле тех, кто не чувствует связи с местным сообществом, но хочет быть его частью, %: Калмыкия – 5,2, Дагестан – 6,6, Астраханская область – 18,2, Волгоградская область – 20,9. Эту категорию людей следует особо учитывать при разработке управленческих стратегий консолидации жителей, рассматривать как отдельный ресурс в обеспечении стабильного регионального развития и формирования социального капитала региона.
Таким образом, современные тенденции развития российского общества актуализуют проблему региональных идентичности и солидарности как один из его аспектов. По результатам социологического исследования, проведенного в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях, выявлена связь между уровнем региональной идентичности местного населения и степенью их солидарности. Большинство респондентов в этих субъектах РФ чувствуют связь с местным сообществом. Общность жизненного пространства, социальных практик, культурных ценностей и норм, этническая и конфессиональная идентификация, укорененность служат основаниями для солидаризации граждан. Именно эти показатели необходимо учитывать при разработке управленческой стратегии в рамках региона, уделяя особое внимание роли солидарности в процессе формирования региональной идентичности и регионального сознания.
Список литературы Солидарность в контексте анализа региональной идентичности (по результатам социологического исследования)
- Демичев И.В. Региональная идентичность: противоречия этнического и гражданского дискурсов // Российский экономический вестник. 2019. Т. 2, № 6. С. 317–322.
- Дроздова Ю.А. Солидарные отношения как основание формирования региональной идентичности // Социально-гуманитарные знания. 2011. № 4. С. 334–342.
- Дроздова Ю.А., Мартинсон Ж.С. «Разобщенность близких душ»: социальная аномия территориальной общности в период социальных трансформаций // Logos et Praxis. 2020. Т. 19, № 1. С. 87–96. https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2020.1.9.
- Дьякова В.В. Региональная идентичность и местный патриотизм: поколенческий аспект // Теория и практика общественного развития. 2020а. № 5 (147). С. 37–41. https://doi.org/10.24158/tipor.2020.5.6.
- Дьякова В.В. Укорененность в контексте анализа региональной идентичности // Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов : сб. докл. VI Всерос. социол. конгр. / отв. ред. В.А. Мансуров. М., 2020б. С. 3799–3805. https://doi.org/10.19181/kongress.2020.451.
- Кармадонов О.А. Солидарность, интеграция, конъюнкция // Социологические исследования. 2015. № 2. С. 3–12.
- Козлова Т.З. Проблема солидарности в трех социологических традициях // Социологические исследования. 1997. № 5. С. 116–119.
- Корепанов Г.С. Региональная идентичность: социокультурный и социоэкономический подходы // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2009. № 3 (65). С. 276–284.
- Лубянов А.В. Роль идентичности в формировании региональной общности // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2014. № 1 (135). С. 123–131.
- Capello R. Cohesion policies and the creation of a European identity: The role of territorial identity // JCMS: Journal of Common Market Studies. 2018. Vol. 56, no. 3. P. 489–503. https://doi.org/10.1111/jcms.12611.
- Friedkin N.E. Social cohesion // Annual Review of Sociology. 2004. Vol. 30. P. 409–425. https://doi.org/10.1146/an-nurev.soc.30.012703.110625.
- Habermas J. Im Sog der Technokratie. Berlin, 2013. 193 p.
- Oliner S.P. The Need for Altruism and Social Solidarity as an Antidote to a Divided World // Newsletter of the Altruism, Morality & Social Solidarity Section of the American Sociological Association. 2010. Vol. 2, no. 2. P. 5–6.
- Paasi A. Regional planning and the mobilization of ‘Regional identity’: From bounded spaces to relational complexity // Re-gional studies. 2013. Vol. 47, no. 8. P. 1206–1219. https://doi.org/10.1080/00343404.2012.661410.
- Putnam R.D., Sander T.H. Still Bowling Alone? The Post-9/11 Split // Journal of Democracy. 2010. Vol. 21, no. 1. P. 9–6. https://doi.org/10.1353/jod.0.0153.