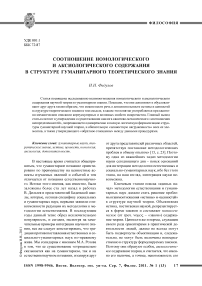Соотношение номологического и аксиологического содержания в структуре гуманитарного теоретического знания
Автор: Федулов И.Н.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (13), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию взаимоотношения номологического и аксиологического содержания научной теории в гуманитарном знании. Показано, что они дополняют и обусловли- вают друг друга таким образом, что можно вести речь о дополнительности истины и ценностей в структуре теоретического знания в том смысле, в каком это понятие употребляется при кванто- во-механическом описании корпускулярных и волновых свойств микрочастиц. Главный вывод статьи состоит в утверждении о существовании аналога квантово-механического «соотношения неопределенностей», запрещающего одновременно и полную логическую формализацию струк- туры гуманитарной научной теории, и обязательную «ценностную нагруженность» всех ее эле- ментов, а также утверждающего «обратное отношение» между данными процедурами.
Гуманитарные науки, теоретическое знание, истина, ценности, номология, аксиология, дополнительность
Короткий адрес: https://sciup.org/14974425
IDR: 14974425 | УДК: 001:1
Текст научной статьи Соотношение номологического и аксиологического содержания в структуре гуманитарного теоретического знания
В настоящее время считается общепринятым, что гуманитарное познание ориентировано по преимуществу на ценностные аспекты изучаемых явлений и событий и тем отличается от познания естественнонаучного. Истоки этого мнения, как известно, были заложены более ста лет назад в работах В. Дильтея и представителей Баденской школы, которые, осознав специфику социальных и гуманитарных наук, первыми заявили о невозможности редукции их методологии к методологии естествознания. В последующие годы данный тезис обрел исключительную популярность, и сегодня, несмотря на замечательные примеры интеграции научного знания, все же следует констатировать, что традиция противопоставления естественных и социально-гуманитарных наук по-прежнему жива. Мы солидарны с мнением М.А. Розова в том, что ее существование «отрицательно сказывается как на гуманитарном, так и на естественнонаучном познании, изолируя друг от друга представителей различных областей, препятствуя постановке методологических проблем и обмену опытом» [15, с. 23]. Поэтому одна из важнейших задач методологии науки сегодняшнего дня – поиск оснований для интеграции методологии естественных и социально-гуманитарных наук, ибо без этого этапа, на наш взгляд, интеграция науки невозможна.
Ключевым этапом поиска «единых начал» методологии естествознания и гуманитарных наук должно стать решение проблемы взаимоотношения «истины» и «ценностей» в структуре научной теории. Объективная истина, постигаемая наукой, репрезентируется в форме законов и составляет номологи-ческое (от греч. voцo^ - «закон») содержание теории. Ценности же и нормы, служащие своего рода ориентирами в практической деятельности людей, далеко не всегда могут быть подвергнуты объективации и, следовательно, не могут быть включены непосредственно в структуру формулируемых законов. Поэтому они образуют особое, аксиологическое содержание теории, и считается, что именно его наличие, а точнее, невозможность его элиминации без потери смысла постигаемых объективных закономерностей, отличает гуманитарные науки от естествознания, в котором объективность законов, наоборот, требует безусловной элиминации ценностей. В предлагаемой работе ставится цель не столько показать необоснованность этой и подобных точек зрения, сколько предложить и по возможности всесторонне обосновать методологическую схему, позволяющую интегрировать номологическое и аксиологическое содержание в единую структуру. Наличие такой структуры в фундаменте любого теоретического построения, на наш взгляд, служит лучшим доказательством правоты сторонников единого подхода в методологии естественных и гуманитарных наук, к числу которых автор относит и себя. Помимо этого мы покажем преимущества данного подхода в методологическом анализе гуманитарного знания по сравнению с традиционным противопоставлением «истины» «ценностям», а также и то, что он весьма далек от наивного и заслуженно критикуемого редукционизма.
Между тем анализ работ философов, разрабатывающих проблему номологическо-го и аксиологического содержания теории, показывает, что уже в самой ее постановке отсутствует единство: вполне конструктивные взгляды у историков и философов естествознания сменяются явно радикальными у гуманитарно ориентированных исследователей, противопоставляющих «истину» «ценностям» и констатирующих «расторжение полифонического родства между Истиной, с одной стороны, и Добром и Красотой – с другой» [2, с. 74–75]. Согласно мнению Г.С. Батищева, известный девиз науки Нового времени «Знание – сила» означал, что наука «своей стратегемой сделала не гармонизацию и не служение абсолютным началам возможной гармонизации, но одностороннюю активность, экспансию, вторжение безотносительно к достоинству, технократическое подчинение мира бездуховному, самодовольному человеку-хозяину. Сама истина, чем больше превращалась из объективной в сугубо объектную, переставала быть ценностью» [там же, с. 74] (выделено мною. – И. Ф.). С другой стороны, существует точка зрения, согласно которой «основоположники механицизма виде- ли цель науки в исследовании истины бытия, проливающей свет на смысл жизни человека, задача познания истины, безотносительной к идее блага, была предельно чужда им» [8, с. 51]. Развивая эту идею, Л.М. Косарева утверждает, что «XVII век был столь плодотворным в научном отношении, что научные исследования для Декарта, Бойля, Гука, Ньютона являлись средством реализации их этической метапрограммы; эти научные исследования отличала удивительная по силе ценностная мотивация» [там же, с. 52] (выделено мною. – И. Ф.).
Очевидно, что и в первом, и во втором примере речь идет об одних и тех же ценностях. Но как же сильно различаются оценки по сути одного и того же процесса! Приведенные высказывания буквально во всем противоречат друг другу, в частности, расторжение столь милого сердцу Г.С. Батищева «полифонического родства» между Истиной, Добром и Красотой начисто отрицается исследованием Л.М. Косаревой. Можно бы видеть причину полярных оценок в личной позиции каждого из авторов, но мы полагаем, что есть основания усматривать действие причины куда более глубокой. Мы полагаем, что корень противоречия скрыт в широко распространенном убеждении в разной онтологической природе истины и ценностей. Убеждение, названное А.А. Ивиным «обычным», заключается в признании истины свойством мыслей правильно отображать действительность, а ценностей – свойством самих вещей отвечать каким-то целям, намерениям, планам и пр. [6] В такой формулировке разная онтологическая природа истины и ценностей, казалось бы, очевидна и не вызывает сомнений. Однако в приведенных нами примерах в качестве «вещи» выступает получаемое наукой новое знание, и здесь онтологическое различие между истиной и ценностью неожиданно пропадает – они становятся просто разными характеристиками этого самого знания: истина характеризует соответствие знания объекту, ценность – соответствие знания намерениям субъекта. Тем самым очевидна неуниверсальность приведенной точки зрения на соотношение истины и ценностей, в частности ее ограниченная применимость к проблемам гносеологии.
На наш взгляд, следует согласиться с А.А. Ивиным, что и истина, и ценность являются не разными свойствами объекта, а разными отношениями между мыслью и действительностью, будучи тем самым онтологически однородными категориями. Однако он полагает, что истинностное и ценностное отношения между утверждением и его объектом противоположны друг другу [6, с. 32]. Возможно, в естествознании дело обстоит именно так. Но в социально-гуманитарных науках имеются веские основания если не отвергнуть совсем, то по крайней мере существенно смягчить радикализм этой точки зрения. Причина тому – неустранимые аксиологические детерминации социально-гуманитарного знания, без влияния которых оно во многом бы обессмыслилось. Именно эти детерминации делают границу между истиной и ценностями размытой и неопределенной настолько, что не всегда удается однозначно демаркировать номологическое и аксиологическое содержание теории в социогуманитарных науках. Мы не будем в очередной раз доказывать данное, по нашему мнению, многократно проверенное утверждение. Для достижения намеченной цели мы, опираясь на исторический анализ содержания категорий «истина» и «ценность» в работах европейских философов ХХ века, покажем недостаточность и противоречивость подхода, противопоставляющего их друг другу на основании убеждения в их различной онтологической природе и стремящегося в дальнейшем элиминировать одну из них.
Итак, начало положено… Очерчена грань, разделяющая «номотетические» науки о всеобщем и «идиографические» науки об индивидуальном, и отныне они будут противостоять друг другу. Подобно тому как за два столетия до этого естественные науки пытались выделиться из лона философии, систематически подчеркивая свое отличие от спе- кулятивного знания, так же и гуманитарные науки в пору методологической зрелости пытаются вступить независимо от «флагмана науки» того времени – естествознания. Этап переживания подобной «болезни роста» в жизни любой науки представляется вполне закономерным. Но в такой радикальной постановке проблемы изначально кроются зерна противоречия: ставя «во главу угла» индивидуальность, невозможно устанавливать закономерности, следовательно ни о какой «генерализации» речи не может идти вообще. Это хорошо понимает современник Риккерта Э. Кассирер, который в «Философии символических форм» пишет по этому поводу: «Всякое познание, какими бы разными ни были его пути и направления, в конечном счете стремится свести многообразие явлений к единству “основоположения”. Отдельное не должно оставаться отдельным, ему надлежит войти в ряды взаимосвязей, где оно будет уже элементом “системы” – логической, телеологической или причинной. В стремлении к этой цели – включению особенного в универсальную форму законосообразности и упорядоченности – раскрывается сама сущность познания» [7, с. 14]. Почему же Риккерт прошел мимо столь очевидного факта? На наш взгляд, причина тому – глубоко укорененная в сознании ученых того времени традиция классической науки рассматривать природу как нечто неизменное, «ставшее», а историю как нечто принципиально незавершенное, «становящееся». Эту мысль очень точно выразил О. Шпенглер: «Действительность становится природой, если все становление рассматривать с точки зрения ставшего; она есть история, если ставшее подчинять становлению» [20, с. 158–159]. В незавершенном же по определению невозможно выделение каких-либо закономерностей, что когда-то было остроумно подмечено Платоном: «Видимо, нельзя говорить о знании, если все вещи меняются и ничто не остается на месте» [13, с. 439–440].
Между тем «вечно изменяющееся» общество нуждается в изучении ничуть не меньше «вечно неизменной» природы. И при изучении общества, так же, как и при изучении природы, приходится выделять закономерности и верифицировать получаемое знание. Главным же детерминирующим знание об обществе фактором выступает как раз «ценностная сфера». Исследователю, устанавливающему на основе анализа эмпирических фактов объективные закономерности, приходится решать одновременно две задачи: необходимо отделять факты от собственных оценок и ценностей и в то же время помнить о ценностных детерминациях исторических и социальных процессов, то есть реализовать на практике то, что Макс Вебер называл «постулатом свободы от ценностных суждений». Так, он писал: «Речь идет о весьма тривиальном требовании, которое сводится к тому, чтобы исследователь отчетливо разделял две группы гетерогенных проблем: установление эмпирических фактов (включая выявленную исследователем «оценивающую» позицию эмпирически исследуемых им людей), с одной стороны, и собственную практическую оценку, то есть свое суждение об этих фактах (в том числе и о превращенных в объект эмпирического исследования «оценках» людей), рассматривающее их как желательные или нежелательные, то есть свою в этом смысле оценивающую позицию – с другой…» [5, с. 558].
Однако данное требование далеко не тривиально – в практической деятельности социального ученого, пытающегося смотреть на изучаемые события глазами непосредственных участников и понимать их мотивы и ценности, далеко не всегда удается дифференцировать собственную оценку изучаемых процессов и событий и «оценивающую позицию эмпирически исследуемых им людей», в особенности если сам ученый является их непосредственным и активным участником. Не существует алгоритма освобождения от оценок, пригодного на все случаи жизни, и это обстоятельство дало основания Карлу Попперу посчитать задачу «изгнания» вненаучных ценностей из научной деятельности «практически невыполнимой»: «Мы не можем запретить ему [ученому. – И. Ф .] оценивать или ломать его оценки, не сломав его ранее как человека и как ученого» [14, с. 71]. Согласно Попперу, поставленная Вебером задача освобождения от ценностей невыполнима еще и потому, что истина, объективность и свобода от ценностей сами являются ценностями. Поэтому различение номотетических и идиографи-ческих наук по критерию, предложенному
Г. Риккертом, неоправданно, если, по словам Поппера, «под “наукой” понимать занятие с определенными логически различимыми проблемами того или иного рода» [14, с. 73] (выделено мною. – И. Ф. ).
С Поппером можно соглашаться или не соглашаться (как поступает, например, Теодор Адорно, вслед за М. Вебером полагающий, что научная объективность достижима лишь в случае безусловной свободы от ценностей), однако ясно, что после его работ дискуссия о взаимоотношении номологического и аксиологического окончательно перешла в «рациональную плоскость». «Вещь, предмет общественного познания, – пишет Т. Адорно, – столь же мало является свободной от долженствования, неким простым наличным бытием – последним она делается лишь будучи рассеченной абстракцией – как и ценность, не является чем-то потусторонним, прибитым к небесному царству идей. Суждение о вещи... одновременно указывает на вещь и не исчерпывается иррациональным субъективным решением, как то представлялось Веберу» [1, с. 83].
Стремление Вебера и его школы «понять» социальные явления в терминах «значащих» категорий человеческого опыта без обращения к логическим процедурам правильного вывода и верификации подверглось дальнейшей критике Эрнестом Нагелем. Он, в частности, полагает, что три фактора препятствуют появлению объективного знания в рамках веберианской концепции: «1) мотивы действия не доступны чувственному наблюдению…; 2) приписывание эмоций, установок и целей в процессе исследования публичного поведения является двойной гипотезой: она предполагает, что участники некоторых социальных явлений находятся в определенном психическом состоянии; она также предполагает определенные взаимоотношения между такими состояниями, а также между ними и публичным поведением…; 3) мы не «понимаем» природы человеческих мотивов и их проявлений в публичном поведении более адекватно, чем «внешние» причинно-обусловленные отношения» [21, с. 53–54]. Позицию Нагеля, испытавшего в свое время сильное влияние неопозитивизма, можно считать крайне логицистской и эмпиристской, однако нельзя не отметить, что она в наибольшей степени отражает желание получить именно верифицируемое знание. Между тем, по мнению Альфреда Шюца, эта точка зрения, выигрывая в одном, неизбежно проигрывает в другом – Нагель не понимает смысла веберовского постулата «субъективной интерпретации».
Шюц старается примирить «понимающую социологию» Вебера и эмпиризм Нагеля и Гемпеля, полагая, что дело в обычном заблуждении последних относительно эпистемологической природы понимания. Согласно его точке зрения, понимание является «особой формой опыта, посредством которой обыденное мышление познает социально-культурный мир... Это продукт процессов сбора или изучения, аналогичных повседневному опыту восприятия мира природы... Понимание не является частным делом наблюдателя, неподвластным проверке в опыте других наблюдателей» [21, с. 58]. Таким образом, Шюц, вслед за Вебером желая изучать социальную реальность, воспринимаемую людьми в повседневном опыте, который наполнен субъективным смыслом, все-таки рассчитывает получить объективное знание, доступное для верификации. В основе верификации, по Шюцу, лежит принцип рационального обоснования поведения действующего лица, которое могло бы быть понято с помощью обыденных интерпретаций как наблюдателю, так и наблюдаемому. Мотивы, цели и социальные роли поэтому подчиняются сразу двум постулатам: «логической последовательности» и «адекватности». Постулат логической последовательности гарантирует объективную достоверность объектов мышления, созданных социальным ученым, постулат адекватности – совместимость с конструктами повседневной жизни.
Таким образом, следуя за мыслью ведущих методологов социально-гуманитарных наук, можно прийти к двум выводам. Во-первых, понимание социального опыта, основанное на субъективных оценках, имеет такую же рациональную природу, как и объяснение, исходящее из признания существования объективной истины в знании о природе и обществе. Утверждение обратного входит в противоречие с многолетним опытом и всем содержанием гуманитарных наук и помимо всего прочего обессмысливает деятельность ученых, занятых в этой области знания. Будучи «прогнанным от парадного», рационально постигаемое всеобщее стремится проникнуть в структуру гуманитарного теоретического знания «с черного хода», проявляясь в требованиях присутствия в теориях объективного содержания и верификации знания. В современном социально-гуманитарном знании данная тенденция прослеживается весьма отчетливо [9, с. 11–52; 10, с. 7–18]. Во-вторых, следует согласиться с А. Шюцем, что различие между социальными и естественными науками не следует усматривать в различных логиках, управляющих каждой из этих отраслей знания. В его уже цитировавшейся работе можно встретить такие слова: «И в естественных, и в социальных науках преобладают принципы вывода и обоснования, а также теоретические идеалы единства, простоты, универсальности и точности» [21, с. 52].
Опыт, накопленный современной методологией науки, подтверждает эту точку зрения. Не имея возможности в рамках одной статьи сколько-нибудь подробно анализировать его результаты, лишь упомянем в ряду наиболее значимых работ исследования Е.А. Мамчур, С.В. Илларионова, посвященные внеэмпири-ческим критериям и регулятивным принципам построения теорий в естественных науках, в основе которых лежат эстетические критерии простоты и красоты [11; 12]. Исходя из этих работ и ряда работ других исследователей, автором настоящей статьи в свое время был подробно исследован также эстетический по своей природе критерий минимизации знания [17; 18]. Выводы, сделанные в этих работах, позволяют заключить, что нелогические, ценностные по своей природе критерии играют важную, а подчас и определяющую роль в процессе формирования научной теории.
Принцип конкретности истины применительно к социально-гуманитарному научному знанию требует присутствия в логических построениях теорий ценностной детерминанты. Попытка построить теорию, опираясь только на что-нибудь одно, рано или поздно неизбежно приводит к противоречию. Можно ли считать истину и ценности противоположными друг другу? Проведенный нами анализ показывает, что да, можно. Но можно ли их считать онтологически различными, если в конкретных научных теориях объективно истинное содержание выступает одной из главных ценностей? На наш взгляд, нет. Стремление к объективной истине заставляет избавляться от субъективных оценок, но уже сама эта процедура оказывается ценностно нагруженной и, таким образом, совсем избавиться от ценностей становится невозможно. С другой стороны, при выборе надлежащей оценки для интерпретации фактов исследователь всегда уверен, что даст единственно правильную, истинную оценку. Мы можем наблюдать, как но-мологическое содержание и аксиологическое содержание теории проникают друг в друга, образуя неразрывное единство в структуре абстрактного теоретического объекта.
Сказанное выше приводит нас к выводу о том, что номологическое содержание и аксиологическое содержание теории связаны между собой отношением дополнительности, подобно тому, как связаны между собой корпускулярные и волновые свойства микрочастиц. На существование подобной дополнительности (хотя и безотносительно к анализу социально-гуманитарного знания) указывал в свое время еще Нильс Бор, говоря о том, что «глубокий анализ любого понятия и его непосредственное применение исключают друг друга» [3, с. 58]. Его позднейшие работы заставляют полагать, что причины возникновения указанной дополнительности он склонен видеть, главным образом, в свойствах языка, «в котором практическое применение всякого слова находится в дополнительном соотношении с попытками его строгого определения» [4, с. 398]. Солидаризуясь с Бором, мы, однако, считаем необходимым напомнить, что практическое применение языковых средств заключается по большей части именно в оценочных суждениях. Исходя из этого, мы выделяем два аспекта дополнительности. Во-первых, соотношение дополнительности может характеризовать знание о разных сторонах одного и того же феномена, получаемых при помощи какого-либо одного средства. Именно этот аспект проявляет себя в естественных науках, запрещая одновременное точное измерение ряда характеристик микрочастиц. Во-вторых же, дополнительность может характеризовать описание одной из сторон данного феномена разными средствами. В настоящей статье отражен именно второй аспект – «истинност- но-ценностный» дуализм описания исторических, социальных и культурных явлений.
Сказанное позволяет по-новому взглянуть на формирование научной теории. Она предстает, прежде всего, как результат синтеза двух начал – номологического и аксиологического описания действительности. И на одном из «полюсов» находятся полностью свободные от оценок математические теории, а на другом – религия, искусство и обыденное познание, в свою очередь полностью свободные от необходимости логической формализации и организации по нормам гипотетико-дедуктивного построения. В любой же естественнонаучной и особенно (как показывает проведенный нами анализ) в гуманитарной теории оба этих начала важны в равной мере, хоть и взаимоотношение между ними может кардинально различаться.
Рассмотрение истины и ценностей с позиции дуализма порождает ряд интересных в философском отношении проблем. На наш взгляд, главная из них состоит в следующем. Если принцип истинностно-ценностного дуализма верно отражает структуру социально-гуманитарной теории, то должен также существовать соответствующий аналог квантово-механического «соотношения неопределенностей» между объективной истиной и субъективными оценками, указывающий на принципиальную невозможность одновременно и полной формализации (в смысле логической выводимости, полноты и непротиворечивости утверждений), и обязательной «ценностной нагруженности» всех элементов ее структуры, и требующий «обратного отношения» между данными процедурами. Указанные аспекты должны находиться во взаимно-обратном отношении. Обнаружение такого соотношения само по себе явилось бы прекрасной верификацией предложенной в настоящей работе точки зрения на соотношение номологи-ческого и аксиологического содержания научной теории. И в заключение, подводя итог настоящей работе, необходимо отметить, что изложенная концепция «истинностно-ценностного дуализма» в будущем могла бы служить основой более широкого, чем это было отмечено в начале статьи, методологического подхода, позволяющего рассматривать с единых позиций не только собственно научное знание, но и его ненаучные формы, и способного, наконец, преодолеть многовековое отчуждение между ними.
Список литературы Соотношение номологического и аксиологического содержания в структуре гуманитарного теоретического знания
- Адорно, Т. К логике социальных наук/Т. Адор-но//Вопросы философии. -1992. -№ 10. -С. 76-86.
- Батищев, Г. С. Истина и ценности/Г. С. Батищев//Познание в социальном контексте/отв. ред. В. А. Лекторский, И. Т. Касавин. -М.: ИФРАН, 1994. -174 с.
- Бор, Н. Квант действия и описание природы (1929 г.)/Н. Бор//Избранные труды. В 2 т. Т. 2/Н. Бор. -М.: Наука, 1971. -677 с.
- Бор, Н. О понятиях причинности и дополнительности (1948 г.)/Н. Бор//Избранные труды. В 2 т. Т. 2/Н. Бор. -М.: Наука, 1971. -677 с.
- Вебер, М. Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке/М. Вебер//Избранные произведения: пер. с нем./М. Вебер; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко. -М.: Прогресс, 1990. -808 с.
- Ивин, А. А. Ценности и понимание/А. А. Ивин//Вопросы философии. -1987. -№ 8. -С. 31-43.
- Кассирер, Э. Философия символических форм. В 3 т. Т. 1/Э. Кассирер. -М.; Спб.: Университетская книга, 2002. -271 с.
- Косарева, Л. М. Ценностные ориентации и развитие научного знания/Л. М. Косарева//Вопросы философии. -1987. -№ 8. -С. 44-54.
- Ларсен, С. Введение/С. Ларсен//Теория и методы в современной политической науке: пер. с англ./под ред. С. Ларсена. -М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. -751 с.
- Ларсен, С. Введение/С. Ларсен//Теория и методы в социальных науках: пер. с англ./под ред. С. Ларсена. -М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. -288 с.
- Мамчур, Е. А. Внеэмпирические критерии в обосновании истинности теоретического познания/Е. А. Мамчур//Практика и познание/[Редкол. Д. П. Горский и др.]. -М.: Наука, 1973. -360 с.
- Мамчур Е. А. Регулятивные принципы построения теории/Е. А. Мамчур, С. В. Иллари-онов//Синтез современного научного знания: [сб. ст.]. -М.: Наука, 1973. -640 с.
- Платон. Кратил/Платон//Соч. В 4 т. Т. 1. -СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.
- Поппер, К. Логика социальных наук/К. Поп-пер//Вопросы философии. -1992. -№ 10. -С. 65-75.
- Риккерт, Г. Науки о природе и науки о культуре/Г. Риккерт. -М.: Республика, 1998. -393 с.
- Розов, М. А. О соотношении естественно-научного и гуманитарного познания (проблема методологического изоморфизма)/М. А. Розов//Наука глазами гуманитария/отв. ред. В. А. Лекторский. -М.: Прогресс-Традиция, 2005. -688 с.
- Федулов, И. Н. Научная теория в круге проблем философии и методологии науки/И. Н. Феду-лов//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. -2008. -№ 3 (27). -Сер. «Социально-экономические науки и искусст-во». -С. 38-43.
- Федулов, И. Н. Философско-методологические основания минимизации теоретического знания: (монография)/И. Н. Федулов. -Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. мед. ун-та, 2007. -96 с.
- Шелер, М. Ordo amoris/М. Шелер//Избранные произведения: пер. с нем./М. Шелер; сост., науч. ред., предисл. А. В. Денежкина; послесл. Л. А. Чухиной. -М.: Гнозис, 1994. -490 с.
- Шпенглер, О. Закат Европы/О. Шпенглер. -Новосибирск: Наука, 1993. -592 с.
- Шюц, А. Формирование понятия и теории в социальных науках/А. Шюц//Избранное: Мир, светящийся смыслом/А. Шюц. -М.: РОССПЭН, 2004. -1056 с.