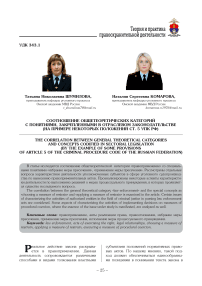Соотношение общетеоретических категорий с понятиями, закрепленными в отраслевом законодательстве (на примере некоторых положений ст. 5 УПК РФ)
Автор: Шумилова Т.Н., Комарова Н.С.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 3 (60), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется соотношение общетеоретической категории «правоприменение» со специальными понятиями «избрание меры пресечения», «применение меры пресечения». Рассмотрены отдельные вопросы характеристики деятельности уполномоченных субъектов в сфере уголовного судопроизводства по вынесению правоприменительных актов. Проанализированы некоторые аспекты характеристики деятельности по выполнению решений о мерах процессуального принуждения, в которых проявляется существо исследуемого вопроса.
Правоприменение, акты реализации права, правоотношения, избрание меры пресечения, применение меры пресечения, исполнение меры процессуального принуждения
Короткий адрес: https://sciup.org/140312403
IDR: 140312403 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Соотношение общетеоретических категорий с понятиями, закрепленными в отраслевом законодательстве (на примере некоторых положений ст. 5 УПК РФ)
Р еальное действие закона раскрывается в правоприменении. Данная деятельность сопровождается различными способами и видами толкования властными субъектами положений нормативных правовых актов. По нашему мнению, такой подход должен обеспечиваться единообразными позициями в понимании текста закона в том значении, которое закладывалось в него законодателем. Проблематика данного вопроса существенно повышается в условиях реального правоприменения, когда единообразное трактовка отдельных нормативных категорий осложняется особенностями отраслевого правового регулирования, невозможностью его прямого соотношения с общетеоретическими научными подходами, а также существованием особенностей правоприменительной деятельности.
В теоретико-правовой доктрине сформирован устойчивый подход, в соответствии с которым применение права определяется как «особая» или «важнейшая» форма реализации права [2, с. 1; 9, с. 7-9; 16, с. 28; 19, с. 245]. Аргументы, обосновывающие данную мысль, сомнений не вызывают, особенно в той части, в которой ученые устанавливают взаимосвязь применения норм законодательства с их соблюдением, использованием, исполнением, а также вынесением обязательного для исполнения акта применения права [17, с. 120-130].
Наряду со сказанным в науке существуют точки зрения, приверженцы которых рассматривают содержание категорий «применение права» и «реализация права» как взаимосвязанное, но отличное по содержанию. В частности, С.С. Алексеев, И.Я. Дюрягин и В.В. Кожевников завершение «применения права» связывают с точным соблюдением норм законодательства в рамках правоотношений либо с вынесением компетентным властным субъектом акта правоприменения [1, c. 331-332; 10, с. 248; 25, с. 460-463]. Иначе считает В.С. Афанасьев, определяющий «применение права» не в качестве формы «реализации права», а в качестве ее метода (средства), состоящего в деятельности, происходящей в рамках выполнения акта правоприменения, другими субъектами (в отношении которых правоприменение осуществлялось) и в иных формах – соблюдения, использования или исполнения норм права [4, с. 143-146].
Оценивая взгляды В.С. Афанасьева, следует обратить внимание на то, что автор пишет о реализации права не только в процессе деятельности уполномоченных властных субъ- ектов, которые, основываясь на положениях законодательства, соблюдая нормативные предписания, регулирующие конкретные правоотношения, исполняя нормативно определенные обязанности, разрешают стоящий перед ними юридический вопрос, а также, основываясь на этом, выносят правоприменительный акт, обладающий общеобязательным характером. Кроме властных субъектов он выделяет иных участников правоотношений, вовлеченных в процесс применения права, к числу обязанностей которых относит выполнение предписаний, указанных в правоприменительном акте. Содержание описанного выше процесса исследователь называет «реализацией права», а «правоприменительный акт» рассматривает в качестве основания для возникновения и развития правоотношений, связанных с выполнением содержащихся в нем предписаний.
По нашему мнению, обе точки зрения не лишены рациональности. Во-первых, применяя в рамках правоотношений конкретные нормы законодательства, властные субъекты облачают результат своей деятельности, осуществляемой в строгом соответствии с нормативно определенным порядком, в соответствующий правоприменительный акт. Во-вторых, такой акт является обязательным для исполнения теми лицами, которым он адресован. В-третьих, процедурные аспекты выполнения акта также строго регламентированы положениями закона, исполняя или соблюдая которые участники возникающих отношений (как властные субъекты, так и иные лица) совершают действия, направленные на выполнение предъявляемых к ним требований. В-четвертых, отношения по поводу выполнения акта применения права нередко сопровождаются вынесением специально уполномоченными субъектами иных правоприменительных решений, которые также обязательны для исполнения. Таким образом, во всех рассмотренных выше подходах авторы исследуют вопросы о существе деятельности, посредством которой происходит правовое воздействие на общественные отношения, обусловленные как содержанием конкретных норм права, так и необходимо- стью их применения при наличии конкретных юридических фактов (оснований и условий) и исполнением актов применения норм права.
Наиболее простая для восприятия взаимосвязь категорий «применение права» и «реализация права», на наш взгляд, демонстрируется в теоретических разработках А.В. Баранова и В.В. Кожевникова. Исследователи лаконично сформулировали определения рассматриваемых явлений и показали соотношение исследуемых категорий, при котором последняя поглощает первую в той части, в которой вынесение акта применения права сопровождает деятельность властных субъектов и адресует ее результат иным участникам правоотношений, возникающих в связи с принятием соответствующего решения, что порождает развитие отношений, связанных с реализацией права [5, с. 128-129; 12, с. 323, 325].
Эффективность деятельности властных субъектов и выполнение обязанностей иными лицами, вовлекаемыми в правоотношения, должна обеспечиваться высоким качеством законодательства. Поэтому не случайно в юридической литературе под качеством законодательства предлагается понимать совокупность юридических и языковых свойств, необходимо присущих правовому акту, характеризующих его как регулятор общественных отношений [23, с. 114]. Основываясь на этом умозаключении, констатируем, что доктринальные установки, а также подходы, принятые в общей теории права, должны находить отражение в отраслевом законодательстве. Это позволит обеспечить единство понятийного аппарата, единообразное толкование законодательства и формирование общих подходов в правоприменительной деятельности.
Особенностью современного российского правового регулирования является наличие во многих федеральных законах норм, определяющих содержание используемых понятий. В контексте этого большой интерес вызывает определяющая часть некоторых основных понятий, предусмотренных в ст. 5 УПК РФ. Внимание этому законодательному акту нами уделяется по причине специфики сферы его правового регулирования, определяющей особенности нормативных дефиниций, содержание которых на первый взгляд не соотносится с теоретическими взглядами на содержание категории «применение права».
Логика нормативного регулирования российского уголовного судопроизводства состоит в том, что уполномоченные субъекты, действуя в публичном порядке, используя специальные отраслевые средства, осуществляют строго в пределах процессуальной формы деятельность, обеспечивающую установление оснований и создание необходимых условий для применения материального права (уголовного закона) [15, с. 36-37]. Спецификой уголовно-процессуальных правоотношений выступает их обеспеченность государственным принуждением, прерогативой применения которого обладают специально уполномоченные властные субъекты уголовного процесса. Именно они вовлекают в орбиту уголовного процесса иных лиц посредством принудительной постановки в соответствующий процессуальный статус, наделяют их особыми правами и обязанностями, обеспечивающими надлежащее поведение и способствующими достижению назначения уголовного судопроизводства.
Одними из средств корректировки поведения подозреваемого, обвиняемого выступают меры пресечения, предусмотренные гл. 13 УПК РФ. Следуя нормативным установкам положений ст. 97-110 УПК РФ – меры пресечения «избираются», «применяются», «соблюдаются», «исполняются», «изменяются» и «отменяются». Несмотря на обширный перечень использованных терминов, только два из них имеют нормативное закрепление – «избрание меры пресечения» и «применение меры пресечения» (п. 13 и п. 29 ст. 5 УПК РФ). Первое законодатель определил как принятие дознавателем, следователем или судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого. Содержание второй дефиниции устанавливается как процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения.
Для уяснения значения обозначенных терминов следует обратиться к содержанию деятельности, регламентированной УПК РФ. Это необходимо в силу особенностей порядка реализации полномочий властных субъектов, а также специфики нормативной регламентации прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства, то есть особенностей содержания правоотношений. Важность понимания их существа определяется значимостью действий властных субъектов, устанавливающих наличие или отсутствие необходимых юридически значимых фактов, позволяющих ответить на вопрос о возможности вынесения акта применения права. Именно по этой причине оценке соответствия норм УПК РФ основному закону уделяется большое внимание Конституционным Судом РФ1, а Верховный Суд РФ дает подробные разъяснения по вопросам применения законодательства в рассматриваемой сфере отношений2.
Полагаем, что столь активная позиция высших судов РФ обусловлена подходом, состоящими в том, что практика правосудия считается «критерием истинности правопо-нимания»3. В этой связи можно согласиться с мнением о том, что разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения законодательства, основанные на требованиях закона и обобщенных данных судебной практики в масштабах страны, являются ориентиром, подлежащим обязательному уче- ту в целях вынесения законных и обоснованных приговоров, решений, определений и постановлений [24, с. 93-97]. Однако стоит понимать, что каждое дело является индивидуальным юридическим случаем, сопровождаемым наличием аутентичных юридически значимых фактов, в связи с чем рекомендации Верховного Суда РФ следует считать ориентирующим вектором, но не константой, обязательной для использования в правоприменении. В данной части положения УПК РФ содержат множественные аспекты, указывающие на потребность в судебном толковании вопросов правопонимания. В первую очередь это обусловлено объективной потребностью в выработке единообразных подходов к обеспечению функционирования отраслевых механизмов, способствующих реализации конституционных гарантий, прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве, а значит, и соблюдения законности при вынесении процессуальных решений.
Анализ установок ст. 97-101 УПК РФ приводит к выводу о том, что при наличии оснований и условий, перечисленных в законе, следователь, дознаватель или суд в пределах своей компетенции вправе избрать в отношении подозреваемого или обвиняемого одну из мер пресечения, о чем выносит постановление или определение. Буквальное содержание указанных положений закона указывает на то, что перечисленные выше субъекты, разрешая вопрос о применении конкретной нормы законодательства, действуя в рамках процессуальной формы, основываясь на имеющихся в деле фактических данных, формирующих совокупность сведений, свидетельствующих о наличии оснований, позволяющих выбрать конкретную меру пресечения, должны вынести об этом правоприменительный акт в виде постановления или определения.
В части характеристики правоприменения при разрешении вопроса о мерах пресечения, избираемых по решению суда, считаем необходимым обратить внимание на особенность порядка принятия такого решения. Речь идет о содержании процедуры разрешения вопроса об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ), домашнего ареста (107 УПК РФ) и запрета определенных действий (105.1 УПК РФ), в соответствии с которым деятельность суда инициируют следователь или дознаватель, которые возбуждают ходатайство об избрании меры пресечения, облаченное в форму постановления. В этой связи возникает вопрос: не дублирует ли данный порядок правоприменительную функцию властных субъектов?
Ответ на обозначенный вопрос не может иметь позитивной оценки, поскольку в силу особенностей распределения полномочий участников уголовного судопроизводства, раскрывающихся, в частности, в ст. 29 УПК РФ, полномочия по разрешению такого юридического дела относятся к исключительной прерогативе суда. Решение участников, осуществляющих предварительное расследование, о возбуждении перед судом ходатайства является промежуточным (вспомогательным) решением, определяющим предмет деятельности суда при рассмотрении юридического дела. Аналогичным образом следует относиться и к оценке значения ходатайства залогодателя, волеизъявление которого является основанием для рассмотрения судом вопроса об избрании меры пресечения в виде залога [18, с. 83].
В контексте положений п. 13 ст. 5 УПК РФ данная деятельность связана с интел- лектуально-волевым аспектом правоприме-ненителя. Она выражается в установлении судом оснований и условий для применения конкретной нормы законодательства с последующим принятием решения о мере пресечения. Сказанное позволяет однозначно утверждать, что общетеоретическая категория «применение права» и специальный отраслевой термин «избрание меры пресечения» являются тождественными.
Исследование категории «применение меры пресечения» выявляет наличие следующих особенностей. Во-первых, она складывается не только из процессуальной деятельности субъектов предварительного расследования. Во-вторых, в нее вынужденно включаются административно-управленческие, розыскные и иные аспекты деятельности не только государственных органов, но и юридических и физических лиц, участников уголовного процесса, вовлеченных в деятельность по выполнению решения суда о мере пресечения. В-третьих, ее правовую основу составляют не только положения УПК РФ, но и иных федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов. Таким образом, содержание деятельности по исполнению решения о мере пресечения выходит за пределы нормативной дефиниции, предусмотренной УПК РФ. Поэтому в данном случае ее содержание следует определять через содержание деятельности по исполнению решения о мере пресечения [7, с. 26-28; 14, с. 231-232].
Определить сущность деятельности по исполнению акта применения права позволяет анализ семантического значения слова «исполнить». Малый академический словарь русского языка его значение раскрывает как «осуществить, претворить в жизнь, выпол-нить»1. Словарь русского языка С.И. Ожегова значение глагола «выполнить» определяет как «осуществить или привести в жизнь»2. Основываясь на том, что акт применения права является обязательным для выполнения его условий всеми обязанными субъектами, толковать значение термина «исполнение» в рассматриваемом контексте следует в значении
«выполнение решения о мере пресечения». Отметим, что существуют федеральные зако-ны1, в которых термин «исполнение» используется в указанном выше контексте, однако ни в одном из них, как и в УПК РФ, нормативное определение исследуемой категории не предусмотрено. Отметим, что мы не считаем необходимым обосновывать внесение в УПК РФ каких-либо дополнений, поскольку отмеченная особенность не является пробелом в законодательстве. Она способствует формированию вариативности действий участников данной деятельности, содержание которой определяется пределами ее правового регулирования, в том числе иным федеральным законодательством. Поэтому приведение в жизнь положений решения о мере пресечения следует рассматривать через «соблюдение» установленных им ограничений и запретов, а также через «исполнение юридической обязанности», то есть через категории, определяющие содержание процесса применения права.
Таким образом, соотношение исследуемых общетеоретических категорий и отраслевых терминов можно представить в следующем виде: категория «применение права» является тождественной категориям «избрание меры пресечения» и «применение меры пресечения». В обозначенном аспекте отчетливо проявляется теоретико-прикладная связь применения меры пресечения с выполнением властных предписаний, содержащихся в процессуальном решении о ее избрании [8, с. 18-19; 13, с. 267; 6, с. 7-19; 26, с. 98; 21, с. 164; 20, с. 24].
При очевидном, на наш взгляд, содержании деятельности по применению права по рассматриваемым позициям, характеризующим особенности правоприменения, в уголовно-процессуальной науке сформирован плюрализм подходов к пониманию ее существа.
Например, Н.И. Капинус и Т.В. Шушанова связывают деятельность о мерах пресечения с приведением в действие соответствующего решения, а момент ее окончания – с доведением содержания решения до лиц, чьи права и интересы им затрагиваются [19, с. 19-20; 27, с. 10-11]. Ю.Г. Овчинников и Н.А. Андронникова, связывая данную деятельность с выполнением решения о мере пресечения, терминологически не разграничивают ее с понятием, содержащимся в п. 29 ст. 13 УПК РФ [22, с. 84; 3, с. 25-29]. Нам видится, что определять пределы деятельности по выполнению решений о мерах пресечения необходимо через два взаимосвязанных аспекта, а именно: через ее нормативное определение и содержание фактической деятельности по выполнению условий, указанных в решении.
В первом случае исследуемая деятельность будет выражаться в производстве процессуальных действий (тех процедур, выполнение которых регламентировано УПК РФ). Второй аспект проявляется в том, что фактическое исполнение судебного решения о мере пресечения выходит за пределы правового регулирования УПК РФ и зачастую носит вспомогательный характер, поскольку, обеспечивает производство необходимых процессуальных действий. В качестве примера можно привести порядок применения положений ст. 105.1 УПК РФ, устанавливающих, что суд доводит решение о мере пресечения до заинтересованных лиц, которые должны соблюдать обозначенные в нем запреты. Организация их выполнения возлагается на контролирующий орган – уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН России, чья деятельность в данной части регламентируется отдельным нормативным правовым актом2.
Законодательные установки УПК РФ определяют, что завершается деятельность по применению мер пресечения (выполнению решения о мере пресечения) принятием решения о ее отмене или изменении. По нашему мнению, в этом находит развитие ранее обозначенная мысль, что в рамках деятельности по выполнению условий акта применения права происходит процесс применения права, который с учетом специфики отраслевого правового регулирования завершается вынесением правоприменительного акта, содержащего итоговое решение, также обладающего общеобязательным характером и подлежащего исполнению.
Подводя итог, отметим следующее. Деятельность по применению норм отраслевого законодательства носит этапный характер. На каждом этапе властные субъекты путем соблюдения процессуальной формы и выполнения юридических обязанностей определяют наличие оснований и условий для применения конкретной нормы закона, облачая результат в форму правоприменительного акта. Таким образом, особенности формулирования исследованных положений УПК РФ обусловлены сущностью и значимостью соблюдения процедурных аспектов. Уяснение их существа позволяет сделать вывод о совпадении исследованных общетеоретических и специальных отраслевых категорий. При этом фактическое содержание деятельности по выполнению решений о мерах пресечения выходит за пределы правового регулирования УПК РФ, однако это не означает, что она не связана с отраслевым правоприменением.