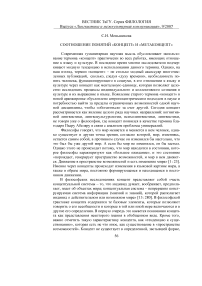Соотношение понятий «концепт» и «метаконцепт»
Автор: Меньшикова Светлана Ивановна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120482
IDR: 146120482
Текст статьи Соотношение понятий «концепт» и «метаконцепт»
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «КОНЦЕПТ» И «МЕТАКОНЦЕПТ»
Современная гуманитарная научная мысль обусловливает использование термина «концепт» практически во всех работах, имеющих отношение к языку и культуре. В последнее время многие исследователи подчеркивают модную тенденцию в использовании данного термина. Однако, на наш взгляд, термин «концепт» – не столько модный аксессуар многочисленных публикаций, сколько, следуя «духу времени», необходимость понять человека, функционирующего в социуме, в его отношении к языку и культуре через концепт как ментальную единицу, которая позволяет целостно исследовать процессы индивидуального и коллективного сознания в культуре и их выражение в языке. Появление старого термина «концепт» в новой аранжировке обусловлено антропоцентрическим подходом в науке и потребностью выйти за пределы ограниченных возможностей одной научной дисциплины, чтобы «обогатиться» за счет другой. Сегодня концепт рассматривается как явление целого ряда научных направлений: когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, психолингвистики, лингвистики, не говоря уже о философии, где концепт появился в качестве термина благодаря Пьеру Абеляру в связи с анализом проблемы универсалий.
Философы говорят, что мир меняется и меняется в нем человек, однако существует и другая точка зрения, согласно которой, мир, изменяясь, остается самим собой, в противном случае он изменился бы настолько, что это был бы уже другой мир. А если бы мир не изменялся, он бы застыл. Однако этого не происходит потому, что мир находится в состоянии, которое философы характеризуют как «большое ожидание», и это состояние «порождает, генерирует пространство возможностей, и мир в нем движется. Движение в пространстве возможностей и есть изменение мира» [1: 23]. Именно через концепты происходят изменения в языковой картине мира, а также в образе мира, постоянно формирующемся и находящемся в постоянном движении.
В философских исследованиях концепт представляет собой «часть концептуальной системы – то, что индивид думает, воображает, предполагает, знает об объектах мира; концептуальная система – непрерывно конструируемая система информации (мнений и знаний), которой располагает индивид о действительном или возможном мире» [13: 280]. В философской трактовке концепта содержатся те базовые элементы, которые позволяют говорить о его всеобщности и которые в той или иной мере включаются и в другие его определения. В первую очередь это касается понимания концепта как представления некоторого знания в обобщенном виде. Кроме того, важно отметить такую характеристику концепта, как «тенденцию к существованию», которая есть не что иное, как существование в «пространстве возможностей». Концепт не существует в определенной, застывшей форме, он не всегда выражен вербальными средствами в прямом значении, он может быть описан или выражен косвенным образом, потому что он виртуален и реален в одно и то же время. Он представляет собой совокупность взаимосвязей, отношений, которые проявляются в определенное время и отражают изменения, происходящие в реальности.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы выявить ряд основных признаков, присущих концепту, акцентировать внимание на различиях между концептом и метаконцептом с тем, чтобы обосновать выбор метаконцепта как единицу, наиболее релевантную для описания одного из феноменов бытия – нравственности.
Рассматривая дефиниции концепта с различных точек зрения, следует подчеркнуть в них то общее, что позволяет выделить концепт из ряда других категорий независимо от принадлежности его к какой-либо науке. Поскольку форму реального практического существования сознание получает в языке, то концепт, будучи ментальной единицей, опредмечивается через язык. В собственно лингвистическом аспекте концепт – «единица эмиче-ского уровня (сопоставимая с фонемой, лексемой, морфемой и др.), которая на этическом уровне репрезентируется при помощи сигнификата (содержания и объема понятия), лексического значения и внутренней формы слова (способа представления языкового содержания)» [12: 128]. Согласно Т.В. Матвеевой, «концепт выражается языком и закреплен за отдельными словами или словосочетаниями, но не равен языковой единице. Содержание концепта складывается из содержания множества слов, контекстов и текстов, в которых откладывается общее понимание некоторого факта сознания…» [11: 116].
Исследователи отмечают два основных направления в изучении концептов: лингвокогнитивное и лингвокультурное, которые являются не взаимоисключающими, скорее, наоборот, взаимодополняющими. Анализируя их отношения, В.И. Карасик приходит к выводу, что «эти подходы различаются векторами по отношению к индивиду: лингвокогнитивный концепт – это направление от индивидуального сознания к культуре, а лингвокультурный концепт – это направление от культуры к индивидуальному сознанию» [8: 139]. С точки зрения лингвокогнитивной науки концепт является единицей «ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знания и опыт человека» [9: 90].
В лингвокультурологии «статус концепта признается за ментальными образованиями любой степени общности, обладающими внутренней семантической расчлененностью, отмеченными этнокультурной спецификой и находящими фиксированное языковое выражение» [2: 36]. В то же время концепт не сводится к слову, поскольку представляет собой совокупность разноуровневых элементов. Согласно Ю.Е. Прохорову, «концепт есть некоторая референция, определяющая взаимосвязь, отношения между действительностью ситуации общения и теми семиотическими и семантически- ми полями, которые на данном языке в данной культуре устойчиво с этой ситуацией относятся» [16: 288]. Будучи явлением культуры, концепт представляет собой – «сгусток культуры в сознании человека, концепты не только мыслятся, но и переживаются» [20: 42].
Следует отметить, что исследователи определяют концепт как явление культуры, лингвистики, культурологи, философии, считают его единицей ментальности (С.Г. Воркачев, В.И. Карасик), единицей сознания (Е.С. Кубрякова, И.А. Стернин, З.Д. Попова, Г.Г. Слышкин), единицей языкового видения мира (Н.Д. Арутюнова, Ю.Д. Апресян, Л.О. Чернейко, В.В. Красных); устанавливают, что концепт выражается совокупностью языковых и неязыковых средств (В.И. Карасик), словом (С.А. Аскольдов), готовыми лексемами и фразеосочетаниями, синтаксическими конструкциями (З.Д. Попова, Т.В. Матвеева), гештальтом, фрейм-структурами (Л.О. Чернейко), – все это свидетельствует о сложности объекта и многочисленных подходах к его изучению. Однако, на наш взгляд, в последнее время концепт, становясь объектом всестороннего анализа, все больше «отчуждается» от индивида, продуктом сознания которого он является, превращаясь в конструкт. Национальная концептосфера существует постольку, поскольку есть концептосфера индивидуальная.
А.А. Залевская справедливо отмечает, что исследователь в качестве носителя языка опирается на концепт как достояние индивида, но рассматривает его (через анализ языковой картины мира) как функционирующий в определенном социуме (или шире – культуре) инвариант, а в результате получает продукт научного описания – конструкт, который способен отобразить лишь часть того, что содержится в каждом из названных видов концептов [5: 244]. Если говорить о концепте как единице «переживаемой», эмоциональной, и рассматривать его с позиций духовной культуры, то, несомненно, в качестве основного следует использовать то определение, в котором подчеркивается исходная позиция возникновения концепта – психическая жизнь индивида и соответствующие ее составляющие. Таким образом, все это позволяет определить концепт как «спонтанно функционирующее в речемыслительной деятельности индивида базовое перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера, отличающееся от понятий и представлений по ряду параметров» [5: 243].
В этом определении концепта подчеркивается присущая ему форма познания действительности – чувственное отображение предмета или явления объективной действительности, воздействующего на органы чувств. Перцепция включает в себя чувства и эмоции, но не сводится только к ним, поскольку она предметна и осмысленна. Восприятие «не является простой суммой ощущений, оно – сложный целостный процесс, а то и целенаправленная деятельность» [17: 239]. Динамический характер концепта свидетельствует о его подвижности, целенаправленной деятельности, о взаимодействии и взаимосвязи с другими концептами в зависимости от ситуации.
Аффективная составляющая концепта указывает на то, что эмоциональное переживание локализовано во времени, оно не может длиться вечно. Психическая и социальная жизнь индивида определяют возникновение, функционирование и перемещение концептов в его сознании. Нравственные концепты затрагивают, в первую очередь, сферу духовной культуры, поэтому особое внимание уделяется определенным психическим состояниям, где восприятие и понимание выступают в единстве с личностным отношением к действительности.
Таким образом, приведенные выше дефиниции концепта позволяют сделать вывод, что концепт – ментальная единица, имеющая отчасти вербальное выражение, конкретное проявление в психической жизни индивида и выход на концептосферу социума. Следовательно, в рамках антропоцентрического подхода концепт надо рассматривать комплексно, а существующее сегодня разделение необходимо для решения определенных исследовательских задач. Другими словами, концепт призван «связать воедино научные изыскания в области культуры, сознания и языка, так как он принадлежит сознанию, детерминируется культурой и опредмечивается в языке» [19: 5].
В этой статье нас интересует структура концепта, по поводу которой существуют самые различные мнения. Поскольку концепт является единицей ментальности, он не имеет четкой структуры и не поддается строгой формализации. В качестве исследовательского материала – конструкта – он может быть формализован, структурирован, но в этом случае часть концепта не попадает в поле зрения исследователя ввиду его динамичности, размытости и невозможности быть вербализованным. З.Д. Попова и И.А. Стернин отмечают, что «структура концепта включает образующие концепт базовые структурные компоненты разной когнитивной природы – чувственный образ, информационное содержание и интерпретационное поле и описывается как перечисление когнитивных признаков, принадлежащих каждому из этих структурных компонентов концепта» [15: 80] (см. также ([14]).
Ю.С. Степанов выделяет три компонента концепта: основной актуальный признак, известный всем; признак, актуальный для отдельных лиц, и внутреннюю форму концепта, известную лишь специалистам [20: 41].
В.И. Карасик вычленяет в структуре концепта ценностную, образную и понятийную стороны. Ценностная сторона отражает значимость данного психического образования для индивида, социума; образная – «релевантные признаки практического знания», понятийная – языковое выражение концепта [8: 154].
С.Г. Воркачев в семантическом составе лингвоконцепта выделяет три составляющих: понятийную, отражающую его признаковую и дефиници-онную структуру; образную, фиксирующую когнитивные метафоры, поддерживающие концепт в сознании; значимостную, определяемую местом, которое занимает имя концепта в языковой системе [3: 80].
Г.Г. Слышкин считает, что структура концепта включает четыре элемента: интразону и экстразону как совокупность входящих и исходящих смысловых ассоциаций, квазиинтразону и квазиэкстразону, связанные с входящими и исходящими формальными ассоциациями [18: 113].
Г.В. Токарев определяет структуру концепта как «триединство общечеловеческого, культурного, субкультурного слоев» [21: 88], которые находят свое отражение и в особенностях языковой репрезентации.
В структурном аспекте широкое распространение получила теория полевой организации концепта. Как правило, строение всех вышеперечисленных концептов трехчленно и его можно представить в виде поля по типу «ядро, ближняя и дальняя периферия». Однако в разных подходах компоненты поля отличаются друг от друга. Например, В.П. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе [7] считают, что структура концепта трехчлена, в нее входят взаимосвязанные элементы: внутренняя форма, ядро и актуальный слой. Внутренняя форма определяет современное бытование концепта, ядро содержит базовое значение слова, раскрывающееся в словарных статьях, актуальный слой связан с сознанием и реакцией воспринимающего человека. Данная точка зрения интересна для исследования вербально выраженного концепта; что же касается абстрактных концептов, то, как правило, значительная часть их не может быть вербализована, однако остается актуальный слой. По сути, когда мы говорим о концепте, то имеем в виду ментальное образование, репрезентрируемое в языке, в первую очередь, словом, которое является «средством доступа к единому информационному тезаурусу человека» [5: 123]. С этой позиции особый интерес представляет точка зрения А.А. Залевской, которая, разрабатывая концепцию лексикона более 20 лет назад, делает вывод, что все описанные в научных публикациях виды полей и связей между словами являются актуальными для лексикона; каждая единица лексикона вступает в многочисленные связи по каждому из возможных параметров и «вся эта многосторонняя информация перекрещивается к тому же со сложной системой оценок по параметрам эмоциональной окрашенности, частотности, периода усвоения слова индивидом и т.п. Все это переплетение и пересечение разнообразных связей и оценок хранится в памяти одновременно (симультанно) вместе с набором стратегий поиска единиц разных ярусов при межъярусных переходах и набором правил сочетаемости единиц в рамках отдельных ярусов и подъярусов» [6: 109–110]. В настоящей статье рассматривается образование, большее, чем концепт, имеющее многочисленные связи внутри элементов, которые, в свою очередь, имеют полевую структуру, другими словами, те же ярусы и подъярусы, характерные для лексикона, рассматриваемого А.А. Залевской.
Одним из таких образований является концепт как микросистема в макросистеме культуры (В.П. Зинченко), концепт-максимум (А. Вежбиц-кая), макроконцепт (Г.В. Токарев, Л.Ю. Димитренко), суперконцепт (Г.В. Гафарова,) метаконцепт (Г.Г. Слышкин). Исходя из терминологии можно
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 9/2007___ понять, что все эти типы образований представляют собой структуру, большую, чем концепт по тем или иным параметрам. Например, Л.Ю. Ди-митренко, рассматривая в своем диссертационном исследовании макроконцепт «движение» в концептуальной и языковой картине мира носителей французского языка, представляет его как структуру, реализуемую на трех уровнях концептуальной соотнесенности. Основу данной структуры составляют самостоятельные концепты «перемещение», «действие», «изменение», соотносимые с каждым из уровней. Три уровня макроконцепта состоят между собой в отношении возрастания степени абстрактности: базовый уровень отражает знания относительно движения, соотнесенного с физическим пространством; второй – с ментальным и эмоциональным пространством и, наконец, третий – с социальной сферой [4: 10]. Таким образом, макроконцепт «движение» включает в себя другие концепты, связанные с движением как одним из аспектов жизнедеятельности человека.
В качестве обоснования в выборе термина «метаконцепт» сошлемся на позицию В.П. Литвинова. В своем «Метаграмматическом трактате» он приводит комментарий, в котором осмысливает в общенаучном дискурсе нового времени образования с греческой приставкой «мета», сложившиеся по аналогии с «метафизикой», которая функционирует «над и по поводу» действительности. Им рассматриваются такие общеупотребительные в различных областях науки термины, как «метаматематика», «метасемиотика», «метаэтика», «металингвистика», «метапсихология», «метаметодология». В настоящей работе термин «метаконцепт» может продолжить названный ряд, правда, в качестве не метанауки, а только одного ее компонента. Иллюстрацией может служить пример с метасемантикой, которую В.П. Литвинов рассматривает в рамках понятия «метанауки», введенного А. Тарским. В.П. Литвинов мыслит ее в виде семантики–2, надстроенной над заданной семантикой–1, и останавливается на двух принципиально различных случаях. В первом случае семантика–2 представляет собой некоторый язык, описывающий значения семантики–1 и потому являющийся частью семантики–1. Во втором случае семантика–2 есть некоторое знание о семантике–1, и тогда она уже не является языком, соответственно, и метаязыком, а является метазнанием, и, как метазнание, она «должна быть не знанием об условиях истинности семантики–1, а знанием об условиях его семантичности (что делает семантику семантикой?), т.е. речь идет о семан-тичности семантики. В этом случае исследовательская процедура должна «удерживать обе позиции, рефлексивно их соотнося и взаимно отображая» [10: 14]. В.П. Литвинов отмечает, что понятие с приставкой «мета» уже существует в языке или коммуникативном акте как необходимая часть языка или коммуникации. «Опираясь на Якобсона, Эрик Бюиссанс утверждает, что метаязык – постоянная часть нашей речевой практики вообще, хотя мы не знаем об этом так же, как господин Журден не знал, что он говорит прозой» [10: 19].
Таким образом, возвращаясь к примеру с семантикой–1 и семантикой– 2, можно сказать, что, исследуя метаязык, нельзя находиться вне и внутри него. Лингвист не объективирует язык, а «заимствует позицию метаязыковой рефлексии, уже предусмотренную самим языком по его сути… он размещается внутри сложной системы языка, занимая в ней такую позицию, в которой язык ему понятен» [10: 25].
В научном обиходе термин «метаконцепт» как основной используется в работе Г.Г. Слышкина «Лингвокультурные концепты и метаконцепты». Он определяет метаконцепт как «результат вторичной концептуализации, объектом которой становятся продукты предшествующего концептуального опыта человечества, оформленные как семиотические образования (такие как язык, текст, жанр, стиль, перевод, дискурс, грамматика и др.). В метаконцептах реализуется рефлексия носителя языка по поводу знаковой деятельности, объектом или субъектом которой он является» [18: 98]. Метаконцепт как сложное образование имеет понятийный элемент – правила; эмоциональный, или образный элемент, – ассоциации; ценностный элемент – отношение, которое показывает степень важности семиотического образования для носителя языка. Конечно, незнание лингвистического термина не означает отсутствие его в коллективном сознании. В сознании носителей языка существуют определенные знания о речевом поведении в различных ситуациях, имеется некоторый набор правил, т.е. у них сформирован коммуникативный метаконцепт, даже если они этого не осознают, причем источником формирования метаконцепта может быть любое явление действительности, в частности как конкретные, так и абстрактные лингвистические единицы.
Рассматриваемый в нашей работе метаконцепт НРАВСТВЕННОСТЬ представляет собой сложное образование, в котором реализуется, в первую очередь, понятийная составляющая, т.е. определенный набор этических норм, правил. Метаконцепт НРАВСТВЕННОСТЬ – абстрактная единица, которая реализуется через абстрактные концепты СОВЕСТЬ, СТЫД, ВИНА, СТРАДАНИЕ, СОСТРАДАНИЕ, ЛЮБОВЬ, имеющие конкретное проявление в действительности и языковое выражение.
Если понятие «нравственность» рассматривать в качестве макроконцепта, то его составляющими будут вышеперечисленные концепты и сам концепт НРАВСТВЕННОСТЬ будет находиться в той же самой плоскости. На наш взгляд, концепт НРАВСТВЕННОСТЬ не может находиться в одном ряду с другими концептами или даже состоять из других концептов.
Таким образом, возникает необходимый вопрос о метаконцепте, который в рамках современной терминологии обозначает своеобразную надстройку, регулирующую и контролирующую составляющие его образования. Следует отметить, что термин «метаконцепт» указывает на внешнюю позицию относительно «внутренних концептов», что позволяет исследовать составляющие его нравственные концепты в конкретных ситуациях
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 9/2007___ объективной действительности и изучать их языковое выражение в художественных текстах.
Таким образом, метаконцепт НРАВСТВЕННОСТЬ представляет собой не простой набор концептов, он определяет функционирование «внутренних» концептов.