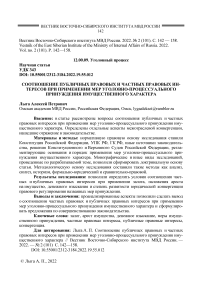Соотношение публичных правовых и частных правовых интересов при применении мер уголовно-процессуального принуждения имущественного характера
Автор: Лыга Алексей Петрович
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовный процесс
Статья в выпуске: 2 (101), 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассмотрены вопросы соотношения публичных и частных правовых интересов при применении мер уголовно-процессуального принуждения имущественного характера. Определены отдельные аспекты межотраслевой конвергенции, нашедшие отражение в законодательстве. Материалы и методы: нормативную правовую основу исследования ставили Конституция Российской Федерации, УПК РФ, ГК РФ, иные источники законодательства, решения Конституционного и Верховного Судов Российской Федерации, регламентирующие основания и порядок применения мер уголовно-процессуального принуждения имущественного характера. Монографические и иные виды исследований, проведенные по разрабатываемой теме, позволили сформировать доктринальную основу статьи. Методологическую основу исследования составили такие методы как анализ, синтез, историзм, формально-юридический и сравнительно-правовой. Результаты исследования: позволили определить условия соотношения частных и публичных правовых интересов при применении залога, наложения ареста на имущество, денежного взыскания и степень развитости юридической конвергенции правового регулирования названных мер принуждения. Выводы и заключения: проанализированные аспекты позволили сделать вывод о соотношении частных правовых и публичных правовых интересов при применении мер уголовно-процессуального принуждения имущественного характера и сформулировать предложения по совершенствованию законодательства.
Залог, арест имущества, денежное взыскание, меры имущественного принуждения, частные правовые интересы, публичные правовые интересы, конвергенция
Короткий адрес: https://sciup.org/143178853
IDR: 143178853 | УДК: 343 | DOI: 10.55001/2312-3184.2022.19.55.012
Текст научной статьи Соотношение публичных правовых и частных правовых интересов при применении мер уголовно-процессуального принуждения имущественного характера
В послании Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, через реализацию комплекса мер государственной поддержки, направленных на оказание финансовой помощи населению, указано на повышенную заинтересованность госу- дарства в обеспечении частных правовых имущественных интересов и благосостояния граждан. В самом широком смысле интерпретировать слова главы государства видится допустимым и в контексте позиций, ранее обозначенных Конституционным Судом Российской Федерации: «вмешательство государства в отношения собственности не должно быть произвольным и нарушать равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав, что предполагает разумную соразмерность между используемыми средствами и преследуемой целью»1. В части, касающейся сферы уголовного судопроизводства, это говорит о значимости формирования высокой правовой защищенности частных имущественных интересов при применении мер принуждения имущественного характера.
К указанным мерам принято относить наложение ареста на имущество (ст.ст. 115 — 115.1 УПК РФ), залог (ст. 106 УПК РФ) и денежное взыскание (ст. 117 УПК РФ). В 2020 г. наложение ареста на имущество применялось 37 тыс. 972 раза (2019 г. — 34 тыс. 945), залог — 124 раза (2019 г. — 262), денежное взыскание — 2 тыс. 334 раза (2019 г. — 3 тыс. 812)2. Приведенная статистка демонстрирует снижение частоты применения рассматриваемых мер при их достаточно высоком обеспечительном потенциале.
Многие вопросы соотношения частных и публичных правовых интересов в уголовном судопроизводстве, в особенности межотраслевого характера, сегодня остаются не решенными. Предлагаемые варианты расширения полномочий правоохранителей, в виде применения положений КоАП РФ при блокировке банковских счетов и электронных платежных средств в ходе противодействия организованной преступности (экстремизму, терроризму, наркоторговле)3, на наш взгляд указывают на явное несоответствие целей и средств их достижения.
Уголовно-процессуальная наука вопросы соотношения частного и публичного интересов поднимает с конца XIX в. [1, с. 6—11]. Значимыми достижениями мыслителей той эпохи можно уверенно определить научное обоснование: 1) проявления частного интереса в личных правах обвиняемого и в праве участника процесса на изъявление воли реализовать свое процессуальное право или проявить в отношении него пассивность; 2) безальтернативной обязательности соблюдения процессуальной формы, как гаранта «соглашения» публичных и частных интересов, в обязательном порядке предусмотренных в законе и 3) свободы реализации прав и законных интересов участников процесса посредством публичной деятельности должностных лиц [2, с. 23; 3, с. 59; 4, с. 51].
Оценка обеспеченности частных интересов, а тем более личных имущественных интересов, в советском уголовном процессе неоднозначна. С одной стороны, это связывают с констатацией подмены общественных и частных интересов государственными1, и урегулированием механизмов защиты интересов лишь обвиняемого [5, с. 23 — 24]. С другой — отмечается развитость мер имущественного характера и некоторых механизмов удовлетворения интересов государства, потерпевших от преступлений, а также первоочередность защиты материальных и процессуальных интересов личности [6, с. 3; 7, с. 93 — 94].
В силу политических процессов, проходивших в России в 90-х гг. XX в., категория «баланс интересов» приобрела свойство «индикатора» его развитости. Ратифицировав «Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней» от 4 ноября 1959 года2, Россия приняла обязанность соблюдать баланс между публичными правовыми и частными правовыми интересами. Конституционный и Верховный Суды Российской Федерации стали подчеркивать значимость и обязательность обеспечения «баланса» частного и публичного интересов, как законодателем, так и судами3. Однако это не повлекло нормативного закрепления соответствующей дефиниции.
На доктринальном уровне к критериям (характеристикам) «баланса интересов» относят: справедливое соотношение прав, обязанностей и ответственности; наличие развитых механизмов защиты прав; четкое законодательное определение правового статуса участников отношений [8, с. 101 — 106]; научно-практическую обусловленность [9, с. 65 — 68]; системность, единообразность [10, с. 75 — 95]; измеримость, достоверность, проверяемость [11, с. 20 — 44] и др.
В различных отраслях научного знания дефиниция «баланс интересов» определяется с учетом их специфики [12, с. 10; 13, с. 121]. Ученые пишут о взаимодействии, равновесии, соотношении, согласованности интересов. Учет интересов всех субъектов правоотношений и исключение противопоставления одних интересов другим, рассматривают в контексте выделения среди них наиболее значимых. Однако такой подход, думается, уязвим и зависим от рисков чрезмерности усмотрения и злоупотребления правом. Поэтому позицию В. М. Сырых «... равновесие в правоотношениях не означает равенства прав и обязанностей, а может даже свидетельствовать об отсутствии или нарушении баланса как такового » [14, с. 371—373], а также других ученых [15, с. 20], высказывающихся о некорректности использования категории «баланс» и о наиболее точном употреблении термина «гармонизация» — процесс согласованности, слаженности сочетания [16, с. 118], полагаем, следует оценивать более позитивно. В то же время следует отметить, что явление «гармонизация» лишено такого свойства как «измеримость», оно не статично, подвижно, его цель не всегда точно определима [17, с. 19], благодаря чему также представляется не совсем применимой к вопросу определения соотношения частных и публичных правовых интересов.
Категория «пропорциональность» определяется как «зависимость между величинами, при которой увеличение одной из них влечет за собой изменение другой во столько же раз...» [16, с. 157]. Видится именно с ее помощью возможно охарактеризовать соотношение частных и публичных правовых интересов. Полагаем, об этом пишут ученые, рассматривающие развитие соотношения частных и публичных интересов в уголовном судопроизводстве через призму влияния на это политических, идеологических и других факторов [11, с. 9], формирующих пределы правового регулирования общественных отношений.
Уголовный процесс считают сферой наиболее активного взаимодействия публичных и частных интересов [17, с. 31]. Данное явление объясняется двуединостью назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Его достижение обеспечивается нормами императивного и диспозитивного характера, определяющими пределы прав и обязанностей участников судопроизводства.
Обеспечивая защиту свобод и интересов личности путем ограничения произвольного применения публичных средств [19, с. 15; 20, с. 15], диспозитивный метод правового регулирования, предоставляет участникам право выбора модели поведения, но только в случаях, специально предусмотренных законом [21, с. 16 — 17]. Он рассматривается автономной [18, с. 34] категорией, взаимодействующей с императивным методом правового регулирования [22, с. 9]. Такое взаимодействие проявляется в правовых механизмах, обеспечивающих защиту интересов государства, гражданского общества и интересов частных лиц [23, с. 5]. К данному выводу позволяет прийти содержание уголовно-процессуального законодательства, в котором средства обеспечения частных и публичных правовых интересов развиваются пропорционально.
Полагаем, что такая тенденция сложилась под влиянием юридической конвергенции, то есть: «... взаимодействия элементов внутри системы права, права и иных регуляторов отношений в обществе ... характеризующегося сближением, увеличением количества связей между элементами сближающихся объектов и определенной степенью согласованности воздействия этих элементов на общественные отношения ...» [8, с. 8]. В рамках данного процесса, средства обеспечения достижения назначения уголовного судопроизводства модернизируются в направлении расширения в них диспозитивного метода правового регулирования, увеличивающего количество связей с гражданским процессом, содержащем в своем наборе схожие средства обеспечения частных правовых интересов.
Примером такого сближения видится допустимым привести институт медиации, законодательно1 развившийся в российском гражданском процессе, но не нашедший отражения в уголовном судопроизводстве. Правовое регулирование Республики Казахстан в данном вопросе оказалось более гибким. Принятие Закона Республики Казахстан «О медиации»2 урегулировало особенности применения данного института в уголовном судопроизводстве (статья 24), что нашло отражение в тексте УПК Республики Казахстан (статья 85).
В российском уголовном процессе примирительные процедуры представлены институтами, имеющими схожее воздействие, а именно: прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон или деятельным раскаянием, особый порядок судебного разбирательства, досудебное соглашение о сотрудничестве и другими. Кроме указанных выше, существуют меры, обеспечивающие судопроизводство, имеющие большое сходство с обеспечительными мерами гражданского процесса. Речь идет о залоге (ст. 106 УПК РФ) и наложении ареста на имущество (ст.ст. 115 — 115.1 УПК РФ). Количество межотраслевых связей данных мер с мерами обеспечения гражданского процесса систематически увеличивается. Но, в силу публичности уголовного процесса, правовое регулирование перечисленных мер не достигло состояния когерентности (достаточно высокой степени связанности и согласованности элементов внутри системы права [8, с. 9]) с гражданским процессом.
Диспозитивный метод правового регулирования при применении наложения ареста на имущество, институционально проявляется в праве потерпевшего (ч. 4 ст. 42 УПК РФ) заявить гражданский иск и в праве гражданского истца на его поддержание в суде или на отказ от него (п.п. 1, 11 ч. 4 ст. 44 УПК РФ). В прямой пропорциональной связи с данным частным правовым интересом, находятся императивные предписания части 1 статьи 1601 УПК РФ, обязывающие наложить арест на имущество, даже когда гражданский иск не заявлен. В таком решении законодатель, очевидно, стремился урегулировать разумное и соразмерное соотношение частных правовых интересов и публичных средств, обеспечивающих их, независимо от принадлежности интереса одной из сторон уголовного процесса.
Благодаря введению в 2015 году гражданско-правового порядка определения принадлежности подвергнутых аресту безналичных денежных средств (ч. 9 ст. 115 УПК
РФ)1, законодатель, вывел этот вопрос из уголовно-процессуальной сферы, снизил вовлеченность органов расследования в решение гражданско-правовых конфликтов и развил практику применения преюдиции. В целом, такая модернизация правового регулирования ареста имущества заслуживает позитивной оценки. До ее проведения единая практика «освобождения» безналичных денежных средств, подвергнутых аресту, а также исполнения положений статьи 90 УПК РФ, не была сформирована. Предпринимавшиеся попытки возбуждения перед судом ходатайств о производстве выемки наличных денежных средств в банковском учреждении (фактического обналичивания их с расчетного счета), по понятным причинам не находили поддержки. Равным образом складывалось отношение к практике отмены ареста безналичных денежных средств по результатам рассмотрения ходатайств заинтересованных лиц и обоснования решений об их удовлетворении результатами следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий2. Очевидно, что применявшиеся «схемы» выходили за пределы правового регулирования УПК РФ, ставя тем самым участников процесса в положение, граничащее с несоблюдением норм материального и процессуального права.
Устранив органы предварительного расследования от разрешения правового вопроса о принадлежности имущества, законодатель все же не внес ясность в порядок исполнения судебного решения. Различия очередности списания безналичных денежных средств, содержащиеся в положениях части 2 статьи 855 ГК РФ и статьи 111 Федерального закона «Об исполнительном производстве»3, при том, что полномочием по отмене ареста имущества является исключительной прерогативой органа, проводящего рассле-дование4, не добавляют ясности в вопрос обеспеченности частных имущественных интересов и согласованности публичных средств их обеспечения. Для преодоления существующей коллизии, предлагается в статье 115 УПК РФ нормативно закрепить безусловность приоритета исполнения судебных решений, следующих из споров о принадлежности арестованных в уголовно-процессуальном порядке безналичных средств. Подобный подход видится допустимым, так как часть 1 статьи 855 ГК РФ допускает установление иным законом специального порядка списания средств со счета.
По мнению В. Д. Зорькина: «важной задачей является отыскание баланса между такими ценностями, как свобода собственности и её социальные функции» [24, с. 133]. Интерпретируя сказанное, можно прийти к выводу о возможности ограничения частных правовых интересов в пользу публичных и в тоже время об их обеспечении применением публичных уголовно-процессуальных средств. Будучи закрепленным в Конституции Российской Федерации, данный порядок не предусматривает обратного механизма (ограничения публичных интересов в пользу частных). По мнению исследователей [14, с. 376] такой подход демонстрирует явный «перекос» соотношения частных и публичных правовых интересов в пользу последних.
Частные правовые интересы лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия (далее по тексту — «третьи лица»), гражданского истца, гражданского ответчика, потерпевшего или подсудимого (осужденного), затрагиваемые при применении ареста имущества (ч. 3 ст. 115 УПК РФ), по справедливому замечанию Конституционного Суда Российской Федерации1 и ученых [25, с. 9 — 14; 26, с. 74 — 79], защищены неполно. Применение ареста имущества, находящегося у «третьих лиц» и отсутствие оснований для конфискации, ставит вопрос о законности сохранения обеспечительных мер после вступления приговора суда в законную силу. Вместе с этим, возможность обращения на него взыскания в порядке солидарной (субсидиарной) ответственности по гражданскому иску, штрафу или иным имущественным взысканиям явно выходит за рамки уголовного судопроизводства. На отсутствие механизма передачи данного вопроса для рассмотрения в гражданском порядке и потребность в нем обратил внимание Конституционный Суд Российской Федерации2. Предлагаем решение данного вопроса относить к исключительной прерогативе суда при вынесении обвинительного приговора, так как схожие позиции им рассматриваются в соответствии с частью 2 статьи 309 УПК РФ.
Публичный механизм уголовно-процессуального залога, посредством императивных и диспозитивных предписаний статьи 106 УПК Российской Федерации, в не меньшей степени, чем наложение ареста на имущество, ограничивает частные правовые интересы.
Применение диспозитивного метода правового регулирования ставит возможность применения этой меры (особо подчеркнем — в публичных целях) в полную зависимость от согласия и внешнего проявления желания на то подозреваемого, обвиняемого или иного залогодателя (ч. 2 ст. 106 УПК РФ). Одновременно, императивный характер предписаний главы 13 УПК РФ позволяет применить к подозреваемому, обвиняемому иную меру пресечения. Полагаем, в этом проявляется пропорциональное соотношение публичных и частных интересов при применении залога, при том, что в данной части законодатель предоставляет очевидный гандикап частным правовым интересам.
Несмотря на сказанное, ученые отмечают недостаточную развитость частного интереса в правовом регулировании применения залога. Предлагают варианты его модернизации: исключить из закона минимальный предел суммы залога [27, с. 162 — 168]; размер определять исходя не из тяжести преступления, а из размера причиненного имущественного вреда и суммы гражданского иска [28, с. 98; 29, с. 121; 30, с. 23 — 30]; сформулировать требования к залогодателю [31, с. 250 — 253]; исключить из предмета залога ценные бумаги и иностранную валюту [32, с. 108 — 114]. Глубинно, целесообразность не всех из перечисленных предложений обосновывается обеспечением разумного и соразмерного соотношения публичных или частных интересов. В зависимости от персональных воззрений авторов, приоритет отдается одним из них, тогда как иные, вероятно, определяются как менее ценные, что усиливает теоретическую проблемность их соотношения.
Очевидно, стремясь преодолеть складывающиеся тенденции, Верховный Суд Российской Федерации сделал некоторые подвижки в направлении усиления конвергенции уголовно-процессуального залога и аналогичной обеспечительной меры в гражданском процессе, а именно, высказал точку зрения о допустимости замены предмета залога в случае его утраты1. Последняя законодательная инициатива — об установлении срока применения залога, возможности замены данной меры пресечения в случае отказа залогодателя от исполнения обязательств 2, также ориентирована на повышение обеспеченности имущественных прав данного участника. К аналогичной цели стремился законодатель и при введении статьи 1151 УПК РФ.
Нам видится вполне допустимым посмотреть на обозначенный вопрос шире и предложить развитее пределов правового регулирования залога в направлении урегулирования порядка замены предмета залога имуществом, наиболее удобным для залогодателя. Такой подход к залоговым отношениям предусмотрен статьей 345 ГК РФ, а также не противоречит указанным выше позициям и предложениям. Подобным образом развитию обеспеченности частных и публичных интересов способствовал бы механизм, позволяющий производить замену имущества, подвергнутого аресту для обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа или иных имущественных взысканий. По- добная процедура применяется в исполнительном производстве в порядке реализации требований части 1 статьи 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Для исключения фактов злоупотреблений со стороны правоприменителей, правом инициировать предлагаемые процедуры следует наделить сторону защиты или залогодателя, а обеспечение соразмерности и разумности применяемого ограничения оставить в компетенции суда.
Понятие «юридическая обязанность» в общей теории права определяется как вид и мера необходимого поведения, требуемого законом и соответствующего праву (полномочию) другого лица. Благодаря данной аксиоме, в институте денежного взыскания, находит проявление не только императивный, но и диспозитивный метод правового регулирования.
Условия действия части 2 статьи 111 УПК РФ, диспозитивно позволяют применить денежное взыскание к строго определенному перечню участников процесса, либо отказаться от его применения вовсе. Закон устанавливает альтернативу данной мере принуждения в виде таких мер как «обязательство о явке» или «привод». В тоже время не исключается возможность применения к участнику процесса последовательно всех указанных мер. Не устанавливая строгих правил в данной части, законодатель предоставил правоприменителю право выбора модели поведения (вариативность применения различных мер принуждения), позволяющей соразмерно и разумно подойти к выбору средств принуждения, адекватных складывающейся ситуации. Данный подход вряд ли возможно считать пробелом в праве. Полагаем, в данном случае, наиболее уместно говорить о квалифицированном молчании законодателя.
Предлагаемое в литературе усиление имущественного потенциала денежного взыскания [33, с. 23 — 29], не позволит преодолеть широко известные проблемы практики применения статьи 117 УПК РФ. Отказ от судебного порядка его применения [34, с. 139 — 143] и передача этого вопроса в компетенцию следователя и дознавателя, по мнению исследователей, глубоко разработавших данный вопрос, вступит в прямое противоречие со статьей 35 Конституции Российской Федерации [35, с. 123], что следует оценивать ключевым аргументом отказа от развития законодательного регулирования денежного взыскания в обозначенном направлении. Приведенные позиции позволяют отметить высокую степень развитости в нормах, регламентирующих применение денежного взыскания, диспозитивного метода правового регулирования, обеспечивающего реализацию публичных целей уголовного судопроизводства посредством воздействия на частные правовые имущественные интересы.
Проведенное исследование позволило автору сформулировать следующие выводы, касающиеся соотношения частных правовых и публичных правовых интересов при применении мер уголовно-процессуального принуждения имущественного характера:
-
1. Двуединое назначение уголовного судопроизводства позволяет утверждать, что частные и публичные правовые интересы в нем являются равнозначными ценностями. Поэтому их соотношение при применении мер уголовно-процессуального принуждения имущественного характера, следует рассматривать посредством применения категории «пропорциональность».
-
2. Степень развитости в действующем правовом регулировании механизмов обеспечения частных и публичных правовых интересов позволяет прийти к выводу
о преобладании в нем императивного метода правового регулирования и большей обеспеченности публичных правовых интересов в механизме применения ареста имущества и залога. При этом потенциал для их диспозитивной модернизации нельзя признать исчерпанным. В связи с чем, предлагается следующее:
-
I. В целях совершенствования механизма «освобождения» арестованных безналичных денежных средств и преодоления противоречий действующего правового регулирования об очередности исполнения решения суда, указанного в части 9 статьи 115 УПК РФ:
дополнить статью 115 УПК РФ частью 9.1 следующего содержания: «Решение суда, указанное в части 9 настоящей статьи, исполняется в первую очередь, независимо от календарной очередности поступления требований о списании и наличия иных первоочередных требований, определяемых в соответствии с частью 2 статьи 855 ГК Российской Федерации».
-
II. В целях повышения обеспеченности частных и публичных правовых интересов при применении ареста имущества:
-
а) дополнить УПК РФ статьей 115.2 «Замена имущества, подвергнутого аресту» следующего содержания:
-
«1 . Подозреваемый, обвиняемый вправе завить в суд по месту производства предварительного расследования или рассмотрения уголовного дела ходатайство о замене имущества, арестованного в целях обеспечения гражданского иска, взыскания штрафа или иных имущественных взысканий.
-
2. Замена может быть произведена на имущество, оценочной стоимостью не менее стоимости имущества, ранее подвергнутого аресту и не более суммы заявленного гражданского иска, возможного штрафа или иных имущественных взысканий. Доказывание добросовестности происхождения и владения имуществом, а так же его оценочной стоимости возлагается на участника, заявившего ходатайство о замене имущества, подвергнутого аресту;
-
3. Замена имущества, подвергнутого аресту, производится в порядке, установленном статьей 115 настоящего Кодекса. Срок наложения ареста на имущество, при применении положений настоящей статьи, исчисляется с момента применения первичного ограничения и продлевается в порядке, установленном статьей 1151 настоящего Кодекса»;
-
III. В качестве механизма, регламентирующего передачу вопроса об удовлетворении гражданского иска за счет имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или несущими по закону материальную ответственность за их действия:
-
2. При принятии по гражданскому иску решений в порядке частей 2 и 22 статьи 309 УПК РФ, арест имущества, примененный в порядке уголовного судопроизводства, сохраняется до принятия иска к производству в гражданском (арбитражном) порядке и рассмотрения судом вопроса о применении обеспечительных мер в порядке, установленном ГПК РФ».
дополнить статью 309 УПК РФ частью 22 следующего содержания:
«1. При обосновании в приговоре фактической принадлежности имущества, находящегося у лиц, указанных в части 3 статьи 115 УПК РФ, лицу, признанному приговором виновным в совершении преступления и признании такого имущества не подлежащим конфискации в соответствии со статьей 104.1 УК РФ, по ходатайству гражданского истца (уточняющему ранее заявленный иск), суд вправе передать гражданский иск для рассмотрения вопроса о возмещении причиненного преступлением вреда за счет имущества указанных лиц в субсидиарном порядке, в гражданское (арбитражное) судопроизводство.
-
IV . В целях совершенствования правового регулирования залога, повышающего обеспеченность частных и публичных правовых интересов:
дополнить УПК РФ статьей 1061 «Замена предмета залога» следующего содержания:
-
«1 . Подозреваемый, обвиняемый или иной залогодатель вправе завить в суд, избравший меру пресечения в виде залога или рассматривающий уголовное дело, ходатайство о замене предмета залога.
-
2. Замена предмета залога осуществляется в порядке статьи 106 настоящего кодекса. Срок применения меры пресечения в виде залога при замене предмета залога, исчисляется с момента первичного избрания меры пресечения».
Автор считает, что развитие механизмов обеспечения частных правовых интересов, в обозначенных пределах, не поставит уголовное судопроизводство в зависимость от субъективного усмотрения частных лиц и обеспечит их пропорциональное соотношение с интересами публичными.
Список литературы Соотношение публичных правовых и частных правовых интересов при применении мер уголовно-процессуального принуждения имущественного характера
- Ковалевский М. И. Учение о личных правах. — М.: Изд-во В. М. Саблина, 1906. — 42 с.
- Вульферт А. К. Курс русского уголовного судопроизводства. — М.: Литограф. изд., 1887(8). — 331 с.; Люблинский П. И. Свобода личности в уголовном процессе. Меры обеспечения неуклонения от правосудия. — СПб.: Сенат. тип., 1906. — 711 с.
- Люблинский П. И. Свобода личности в уголовном процессе. Меры обеспечения неуклонения от правосудия. — СПб.: Сенат. тип., 1906. — 711 с.
- Случевский В. А. Учебник русского уголовного процесса. — СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1913. — 670 с.
- Азаров В. А. Проблемы теории и практики охраны имущественных интересов личности в уголовном судопроизводстве. — Омск: Высшая школа милиции МВД России, 1995. — 188 с.
- Безлепкин Б. Т., Уголовно-процессуальные вопросы взыскания нажитого преступным путем: лек. / Б. Т. Безлепкин, В. К. Бобров. — Волгоград: ВСШ. — 1982. — 20 с.
- Строгович М. С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. — М.: Юриздат, 1939. — 152 с.
- Тропская С. С. Правовой статус налогоплательщика: баланс частных и публичных интересов в налоговой сфере // Государство и право. — 2008. — № 5. — С. 101—106.
- Репьева П. В. К вопросу о принципах баланса интересов // Евразийский союз ученых (ЕСУ). — 2017. — № 10(43). — С. 65—68.
- Парсонс Т. О социальных системах/пер. с англ. и под общ. ред. В. Ф. Чесно-ковой и С.А. Белановского. — М.: Акад. проект., 2002. — 830 с.
- Белоусов С. А. Законодательный дисбаланс (доктрина, теория, практика): дис. ... докт. юрид. наук. — Саратов, 2015. — 501 с.
- Киракосян С. А. Принцип равенства в российском гражданском праве: авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук. — Ростов-н/Д, 2009. — 25 с.
- Халиулин В. Е. Согласование интересов субъектов права как предпосылка формирования гражданского общества в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. — Саратов, 2009. — 228 с.
- Сырых В. М. Логические основания общей теории права Т.3. Современное правопонимание. — М.: Юстинформ, 2007. — 512 с.
- Пшеничнов М. А. Гармонизация российского законодательства (теория, практика, техника): автореф. дис... докт. юрид. наук. — Н. Новгород, 2011. — 58 с.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М.: Сов. энцикл., 1972. — 915 с.
- Адамецки К. О науке организации. — М.: Экономика, 1972. — 191 с.
- Давлетов А. А., Азаренок Н. В. Баланс публичного и частного интересов как основополагающий фактов формирования современного российского уголовного процесса // Законы России. — 2021. — № 6. — С. 31—37.
- Артамонова Е. А. Частное начало в современном уголовном процессе. Основные формы проявления: монография. — М.: Юрлитинформ, 2014. — 199 с.
- Меженина Л. А. Публичность российского уголовного процесса: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2002. — 29 с.
- Багаутдинов Ф. Н. Расширение частных начал в уголовном процессе // Российская юстиция. — 2002. — № 2. — С. 16—17.
- Барабаш А. С. Публичное начало российского уголовного процесса. — СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. — 417 с.
- Третьякова О. Д. Юридическая конвергенция: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — Владимир, 2012. — 445 с.
- Зорькин, В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с Ильинки. — М.: Норма, 2007. — 399 с.
- Булатов Б. Б., Дежнев А. С. О совершенствовании правового регулирования порядка наложения ареста на имущество в уголовном процессе // Вестник Сибирского юридического института МВД России. — 2020. — № 2 (39). — С. 9—14.
- Исаев Р. М. Наложение ареста на имущество в уголовном процессе: вопросы законодательной регламентации // Вестник Уфимского юридического института МВД России. — 2018. — № 1. — С. 74—79.
- Царева Ю. В. Залог в системе мер уголовно-процессуального пресечения // Труды Академии управления МВД России. — 2018. — № 1. — С. 162—168.
- Плоткина Ю. Б. Применение мер пресечения, избираемых по решению суда, в стадии предварительного расследования: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2010. — 23 с.
- Булатов Б. Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве. — Омск: Омская академия МВД России, 2003. — 320 с.
- Булатов Б. Б., Муравьев К. В. Институт мер пресечения в УПК Российской Федерации: динамика развития и перспективы совершенствования // Законы России. — 2021. — № 6. — С. 23—30.
- Кочеткова М. Н., Запорожский С. Н. Залог как мера пресечения в уголовном процессе // SCIENCE TIME. — № 3(39). — С. 250-253.
- Куликов М. И. К вопросу о предмете залога в российском уголовном процессе // Вестник Института мировых цивилизаций. — 2017. — № 14. — С. 108—114.
- Тутынин И. Б. Некоторые проблемы применения денежного взыскания как меры уголовно-процессуального принуждения // Вестник Уральского юридического института МВД России. — 2020. — № 12. — С. 23—29.
- Гараева Т. Б. Наложение денежного взыскания: проблемы правоприменения в уголовном судопроизводстве // Право и государство: теория и практика. — № 5. — 2018. (161). — С. 139—143.
- Булатов Б. Б., Николюк В. В. Меры процессуального принуждения. — М.: Спарк, 2003. — 177 с.