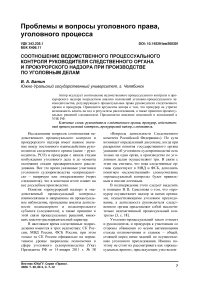Соотношение ведомственного процессуального контроля руководителя следственного органа и прокурорского надзора при производстве по уголовным делам
Автор: Батин Вадим Александрович
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса
Статья в выпуске: 3 т.20, 2020 года.
Бесплатный доступ
Автор исследует соотношение ведомственного процессуального контроля и прокурорского надзора посредством анализа положений уголовно-процессуального законодательства, регулирующего процессуальные права руководителя следственного органа и прокурора. Приводятся аргументы автора о том, что прокурор не утратил возможность влиять на ход и результаты расследования, а также принятия процессуальных решений следователем. Предлагается внесение изменений и дополнений в УПК РФ.
Руководитель следственного органа, прокурор, ведомственный процессуальный контроль, прокурорский надзор, следователь
Короткий адрес: https://sciup.org/147231540
IDR: 147231540 | УДК: 343.235.1 | DOI: 10.14529/law200301
Текст научной статьи Соотношение ведомственного процессуального контроля руководителя следственного органа и прокурорского надзора при производстве по уголовным делам
Исследование вопросов соотношения ведомственного процессуального контроля и прокурорского надзора имеет важное значение ввиду постоянного взаимодействия руководителя следственного органа (далее - руководитель, РСО) и прокурора с начала стадии возбуждения уголовного дела и до момента окончания стадии предварительного расследования. Все это время указанные участники уголовного судопроизводства «соприкасаются» - напрямую или опосредованно (через следователя), что в конечном итоге влияет на все досудебное производство.
Понятия «прокурорский надзор» и «ведомственный процессуальный контроль» взаимосвязаны и направлены на процессуальное наблюдение, проведение анализа деятельности поднадзорного и подконтрольного субъекта (следователя), а также принятие в этой связи процессуальных решений, имеющих властно-распорядительный характер.
В настоящее время следственные подразделения имеются в трех ведомствах: СК России, МВД России, ФСБ России, при этом только за СК России официально на нормативном уровне закреплены полномочия в сфере уголовного судопроизводства (Указ Президента РФ от 14 января 2011 г. № 38
«Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации»). По сути возникает определенный диссонанс, когда при раскрытии понятия государственного органа указание об уголовном судопроизводстве есть только на один орган, а производство по уголовным делам осуществляют три. В связи с этим мы считаем, что пока следственные органы существуют в МВД и ФСБ, дополнять понятием «ведомственный» словосочетание «процессуальный контроль» будет правильным и вполне логичным.
В подтверждение этого следует выделить и позицию В. В. Самсонова о том, что «прокурор осуществляет надзор за всеми органами, осуществляющими уголовное преследование, а деятельность руководителя следственного органа представляет собой исключительно ведомственный процессуальный контроль» [3, с. 18].
Уголовно-процессуальный закон относит и руководителя, и прокурора к участникам со стороны обвинения со всеми вытекающими отсюда полномочиями и главное - общей, стоящей перед ними задачей по осуществлению уголовного преследования. Именно поэтому не стоит их рассматривать как «процессуальных врагов», преследующих узко ведом- ственные интересы.
В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурором является должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, при этом п. 31 ст. 5 УПК РФ относит к прокурору Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров, их заместителей и иных должностных лиц органов прокуратуры, участвующих в уголовном судопроизводстве и наделенных соответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре -это соблюдение прав и свобод человека и гражданина, проверка установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, проведение расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими предварительное следствие (ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). В этой связи мы не согласны с позицией Н. А. Моругиной, полагающей, что после реформы уголовнопроцессуального законодательства в 2007 году руководителю следственного органа переданы частично надзорные функции прокурора [1, с. 24]. Надзор - это исключительная компетенция прокурора.
Также мы не разделяем мнение С. Ю. Лапина о том, что после 2007 года у прокурора надзорные полномочия остались, а действенных полномочий нет [4, с. 10], по следующим причинам.
Во-первых, прокурор при полном и частичном удовлетворении жалобы (в порядке ст. 124 УПК РФ), поданной одним из участников уголовного судопроизводства, указывая на нарушения, допущенные в ходе предварительного следствия, вправе требовать их устранения.
Во-вторых, он вправе отменять незаконные постановления следователя о возбуждении, об отказе в возбуждении уголовного дела, а также о приостановлении предварительного следствия и прекращении уголовного дела, тем самым влияя на начало расследования и его ход.
В-третьих, на прокурора, который хотя и не продлевает сроки предварительного следствия, возложено право принятия решения об утверждении обвинительного заключения, в связи с чем проверяются полнота и законность проведенного расследования, после чего он вправе возвратить уголовное дело следователю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков.
Таким образом, органам предварительного следствия в любом случае необходимо учитывать позицию надзирающего прокурора. При этом мы настаиваем, что таким образом соблюдается баланс, при котором обеспечиваются защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод. Это в свою очередь ни в коем случае не ограничивает процессуальную независимость органов расследования.
Помимо сказанного, прокурор принимает участие в судебном заседании, когда следователь обращается с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на основании судебного решения, и при рассмотрении судом жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. Все это свидетельствует о том, что прокурор не утратил возможность влиять на ход и результаты расследования, а также принятие процессуальных решений следователем.
Рассматривая соотношение ведомственного процессуального контроля и прокурорского надзора, исследуем право прокурора, предусмотренное п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, -требовать от следственных органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, производстве предварительного следствия, и полномочия РСО в этой связи.
В соответствии с ч. 4 ст. 39 УПК РФ руководителю следственного органа предоставлено пять суток на рассмотрение указанного требования и письменных возражений следователя по этому поводу. Данное положение представляется логически верным, так как в этом проявляется процессуальная ответствен- ность РСО и при этом обеспечивается процессуальная самостоятельность следователя.
Согласно ч. 6 ст. 37 УПК РФ в случае несогласия руководителя с требованиями прокурора об устранении нарушений законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, он вправе обратиться с требованием об устранении указанных нарушений к руководителю вышестоящего следственного органа. Согласно п. 1.8 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 26 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» в случае несогласия руководителя следственного органа с требованием прокурора об устранении нарушений федерального законодательства и при наличии оснований проект данного документа и подтверждающие его обоснованность материалы необходимо представлять вышестоящему прокурору для рассмотрения вопроса о направлении требования вышестоящему руководителю следственного органа.
В случае несогласия руководителя вышестоящего следственного органа с указанными требованиями прокурора последний вправе обратиться к Председателю СК России, начальнику СД МВД России или начальнику СУ ФСБ России - в зависимости от того, следователь какого органа не согласен с требованием надзирающего прокурора. При несогласии указанных должностных лиц с требованиями прокурора об устранении нарушений законодательства они вправе обратиться к Генеральному прокурору Российской Федерации, решение которого является окончательным.
Дискуссионными являются позиции авторов, вовлекающих суд в процессуальные отношения «следователь - РСО - прокурор». Так, Т. Ю. Попова указывает на необходимость закрепления возможности по обжалованию указаний и решений руководителя следственного органа только надзирающему прокурору [2, с. 11]. При этом В. А. Шабунин предлагает закрепить право прокурора обращаться в суд в случае несогласия следователя или РСО с требованиями об устранении законодательства [5, с. 18].
Полагаем, что суд как участник уголовного судопроизводства, наделенный правом рассмотрения уголовного дела по существу, не должен в ходе досудебного производства быть вовлечен в спор участников со стороны обвинения, обладающих властными полномо- чиями. Более того, при рассмотрении подобных споров суд фактически будет занимать позицию одной из сторон, что противоречит положениям п. 1 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» в той части, что при проверке законности и обоснованности решений и действий (бездействия) следователя, руководителя следственного органа и прокурора судья не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела; в частности, судья не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и квалификации деяния. Кроме того, разрешение указанных споров приведет к необоснованному и ненужному увеличению нагрузки на судейский корпус.
Интерес также представляет полномочие прокурора, предусмотренное п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в части изъятия любого уголовного дела, а также материалов проверки сообщений о преступлении из следственных органов МВД, ФСБ и передавать следователю СК. Положение данной правовой нормы носит определенный дискриминационный характер, даже несмотря на обязательность указания оснований передачи, в связи с тем, что такой же передачи из следственного комитета следователям ОВД и ФСБ нет. Полагаем, что в большей степени реализация такого права прокурора направлена на обеспечение интересов СК, который, как мы указывали выше, является органом, за которым закреплены полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Вместе с тем процессуальное положение руководителя и следователя всех трех ведомств (имеющих следственные подразделения) одинаковые.
Представляется, что прокурор должен быть уполномочен на изъятие уголовного дела исключительно из производства органа дознания и передачу его в следственный орган - и только при наличии письменного обращения соответствующего руководителя следственного органа. При этом полномочие на разрешение споров о подследственности должно оставаться у прокурора.
В связи с этим предлагаем п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ изменить в следующей редакции: «Изымать любое уголовное дело или любые материалы проверки сообщения о преступлении у органа дознания и передавать его (их) органу предварительного расследования при наличии поступившего письменного обращения соответствующего руководителя следственного органа с обязательным указанием оснований такой передачи».
Поскольку руководитель следственного органа, в отличие от прокурора, обладает большими полномочиями при производстве по уголовному делу и соответственно большими возможностями влиять на ход и результаты расследования, его процессуальная ответственность в отношении подчиненного следователя должна быть больше. Поэтому мы полагаем, что содержание ч. 1 ст. 136 УПК РФ является не вполне правильным (даже несправедливым). Так, действующая редакция данной нормы предполагает принесение извинений реабилитированному прокурором от имени государства независимо от того, на какой стадии уголовного судопроизводства у лица возникло право на реабилитацию: предварительного расследования или судебного разбирательства. На наш взгляд, вполне логичным будет принесение указанных извинений РСО в том случае, если уголовное преследование в отношении подозреваемого (обвиняемого) было прекращено в ходе предварительного следствия.
Таким образом, мы предлагаем изложить ч. 1 ст. 136 УПК РФ в следующей редакции: «За причиненный вред от имени государства реабилитированному приносится официальное извинение: прокурором – в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5 части 2 статьи 133 настоящего Кодекса; руководителем следственного органа – в случае, предусмотренном пунктом 3 части 2 статьи 133 настоящего Кодекса».
Еще одной точкой соприкосновения и взаимодействия рассматриваемых участников является направление уголовного дела с обвинительным заключением. По сути это означает, что собранных по уголовному делу доказательств достаточно для его рассмотрения по существу в суде. Однако в соответствии с ч. 1 ст. 221 УПК РФ прокурор может либо утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд, либо возвратить уголовное дело следователю для производства дополнительного следствия, измене- ния объема обвинения (квалификации действий обвиняемых) или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков. Постановление прокурора о возвращении уголовного дела следователю может быть обжаловано им с согласия руководителя следственного органа вышестоящему прокурору, а при несогласии с его решением – Генеральному прокурору Российской Федерации с согласия Председателя СК России, начальника СД МВД России или начальника СУ ФСБ России. При этом решение Генерального прокурора РФ, если он откажет в удовлетворении ходатайства следователя, является окончательным.
В таком случае складывается парадоксальная ситуация, когда вся вертикаль одного из следственных органов считает, что уголовное дело должно быть направлено в суд для рассмотрения по существу, а вся вертикаль органов прокуратуры считает иначе, при этом когда по делу имеется потерпевший (потерпевшие), то это можно расценивать как нарушение их прав. В связи с этим необходимо пересмотреть подход, имеющийся в настоящее время в уголовно-процессуальном законодательстве, с возложением права утверждения обвинительного заключения на Председателя Следственного комитета России (начальника Следственного департамента МВД России или начальника Следственного управления ФСБ России) в случае отказа Генерального прокурора РФ в утверждении обвинительного заключения. Подобные ситуации следует рассматривать как исключительные, поэтому мы полагаем, что и поддержание государственного обвинения необходимо возлагать на следователя, осуществлявшего производство по уголовному делу и соответственно знающего его досконально. Следует отметить, что во второй редакции УПК РФ (от 29 мая 2002 г.), которая после его принятия в декабре 2001 года начала действовать с 1 июня 2002 года, п. 6 ст. 5 УПК РФ был следующего содержания: «государственный обвинитель – поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры, а по поручению прокурора и в случаях, когда предварительное расследование произведено в форме дознания, также дознаватель либо следователь». Просуществовала данная редакция до июня 2007 года, то есть до внесения «глобальных» изменений в уголовно-процессуальное законодательство.
В связи с изложенным мы предлагаем дополнить частью 6 ст. 221 УПК РФ следующего содержания: «В случае принятия Генеральным прокурором Российской Федерации решения в соответствии с пунктом 1 части 4 настоящей статьи, Председатель Следственного комитета Российской Федерации либо руководитель следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) утверждает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд».
Пункт 6 ст. 5 УПК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «государственный обвинитель – поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры, а также следователь в случае утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд в порядке, предусмотренном частью 6 статью 221 настоящего Кодекса».
Список литературы Соотношение ведомственного процессуального контроля руководителя следственного органа и прокурорского надзора при производстве по уголовным делам
- Моругина, Н. А. Руководитель следственного органа как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения: автореферат дис.... канд. юрид. наук / Н. А. Моругина. - М., 2010. - 28 с.
- Попова, Т. Ю. Уголовно-процессуальный статус руководителя следственного органа: автореферат дис.... канд. юрид. наук / Т. Ю. Попова. - Челябинск, 2012. - 30 с.
- Самсонов, В. В. Прокурорский надзор и ведомственный процессуальный контроль в досудебном производстве: автореферат дис.... канд. юрид. наук / В. В. Самсонов. - Ростов-на-Дону, 2011. - 25 с.
- Чеботарев, М. Прокурор-следователь: революция началась (интервью с С. Ю. Лапиным, представителем НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ) / М. Чеботарев // Эж-ЮРИСТ. - 2007. - № 26. - С. 10-15.
- Шабунин, В. А. Руководитель следственного органа: нормативное регулирование и практика осуществления процессуальных функций и полномочий: автореферат дис.... канд. юрид. наук / В. А. Шабунин. - Саратов, 2013. - 42 с.