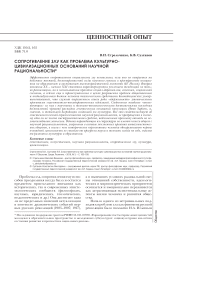Сопротивление злу как проблема культурно-цивилизационных оснований научной рациональности
Автор: Стрельченко В.И., Султанов К.В.
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Ценностный опыт
Статья в выпуске: 3 (52), 2019 года.
Бесплатный доступ
Эффективное сопротивление социальному злу немыслимо, если оно не опирается на действие жесткой, бескомпромиссной силы научного гносиса в пространстве инициатив по образованию и воспитанию высоконравственной личности (И. Ильин). Вторая половина XX - начало XXI столетия характеризуются усилением тенденций не только реанимации, но и использования практик социал-дарвинизма, евгеники, социальной гигиены, а сейчас еще и трансгуманизма в целях разрешения проблем общественного и индивидуального бытия человека техническими средствами биомедицинских усовершенствований, что служит выражением своего рода «одержимости» утопическими проектами сциентистско-технократических идеологий. Соединение наиболее «воинствующих» из них с научными и технико-технологическими достижениями последних десятилетий чревато распадом генетических оснований популяции Homo Sapiens, а, значит, и тотальной деградации созданной ею культуры. Все это свидетельствует об эпистемологической ограниченности научной рациональности, ее превращении в систему едва ли не чисто инструментальных средств, подчиненных произволу отнюдь не человеколюбивых замыслов. Однако порождающие их структуры не имеют ничего общего с научной рациональностью, укоренены в составе жизненных практик антагонистических обществ, в связи с чем исторические перспективы человека обнаруживают черты очевидной зависимости не столько от прогресса науки и техники самих по себе, сколько от развития культуры и образования.
Естественное, искусственное, научная рациональность, сопротивление злу, культура, цивилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/140244691
IDR: 140244691 | УДК: 130.2,
Текст научной статьи Сопротивление злу как проблема культурно-цивилизационных оснований научной рациональности
Стрельченко В.И., Султанов К.В. Сопротивление злу как проблема культурно-цивилизационных оснований научной рациональности // Общество. Среда. Развитие. – 2019, № 3. – С. 103–109.
Проблема зла, сопротивления ему и способов преодоления всегда была и остается предметом пристального внимания как исторических, так и современных эпистемологических сообществ (философских, научных, юридических, теологических, педагогических и др.) Она достигает едва ли не предельных значений актуализации в контексте драматических событий первых русских революций (1905–1907; 1917), а в нынешних условиях радикальной смены отношений собственности, идеологических и мировоззренческих приоритетов осознается и эмоционально переживается как затрагивающая экзистенциальные аспекты жизни человека и развития общества.
Начало одного из нетривиальных подходов к проблеме зла как феномена русской революции было положено И.А. Ильиным
* Исследование поддержано грантом РФФИ 18-011-00759 «Формирование постматериальных ценностей молодежи в образовательном пространстве и молодежных субкультурах: социокультурная аналитика состояния развития и прогностика социальных рисков».
Общество
(1883–1954), который в полемике с доктриной «непротивления злу» Л.Н. Толстого и не отступая от ценностей Православия развивает и отстаивает противоположную позицию [1, с. 5–132]. Он утверждал, что в ситуациях, когда все возможные средства борьбы исчерпаны, в целях сопротивления злу правомерно использование средств принуждения, включая смертную казнь и военную силу. И все-таки позитивное решение проблемы сопротивления злу перерастает у И.А. Ильина в более масштабную по сравнению с физическим насилием задачу мысленного уяснения природы зла (т.е. происхождения и сущности) и на этой основе его духовно-нравственного преодоления на путях естественно сложившихся форм знания, образования и нравственного воспитания [1, с. 133–288].
Методология исследования основыва-
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2019
ется на широком использовании системы средств диалектико-логической аналитики, обеспечивающей возможность обобщения и концептуализации материалов междисциплинарных научных исследований в непосредственной соотнесенности с решением задач их референциальной осмысленности. Эпистемологическая корректность и онтологическая обоснованность нетривиальных утверждений опирается на эвристический потенциал методов совпадения исторического и логического и восхождения от абстрактного к конкретному.
Уяснение предметного содержания обобщений теоретического естествознания и социогуманитарных наук (экологические прогнозы, евгеника, трансгуманизм и др.) осуществляется в контексте анализа феноменолого-герменевтических условий экспликации их смысловых значений. Единство предметной и собственно смысловой оценки теоретических обобщений и опытно-экспериментальных данных достигается еще и за счет методов сравнительно-исторического и системноструктурного подходов.
Важнейшим, а, возможно, и главным источником социальных конфликтов и «антропологических катастроф» современности является оппозиция и постоянно расширяющийся разрыв между естественно возникшими и искусственно созданными формообразованиями частной и общественной жизни людей. Историкогенетически эти оппозиции и разрывы обнаруживаются как выражение дифференциации первичной социальной связи под влиянием процессов снижения роли «естественных орудий» и роста значения «ору- дий созданных цивилизацией» (К. Маркс) в структуре общественного производства. Тем самым положено начало замены «естественной социальной связи» (кровной, территориальной, личной) отношениями обмена, «вещными отношениями» [2, c. 27], а как следствие этого, – беспрецедентного усиления зависимости наличного многообразия видов духовной и практической активности от произвола эгоистических индивидуальных, или групповых интересов, нередко не только не согласующихся, но прямо противоречащих объективным условиям возможности исторической перспективы.
Прогресс «техне», лавинообразный рост удельного веса «семулякрум» (Платон) в составе «живого и трепетного тела культуры» (А.Ф. Лосев) – непосредственное выражение отнюдь не «естественных», а собственно «цивилизационных» интенций эволюции общества. Обнаруживаются и их непосредственные письменные фиксации, скажем, в теоретическом наследии Платона. Как известно, произведения искусства, например, он рассматривает как «подражание подражанию», как область «симуляции», производства не имеющих естественного права на существование предметов, которые в силу этого способствуют не улучшению, а ухудшению человеческой природы. Искусство лжет, а поэтому не воспитывает, а развращает человека, попустительствуя иррациональным, а не разумным способностям. Трижды удаленные от истины деятели искусства должны быть изгнаны из идеального государства [3, с. 421–454].
Придание искусственному значения естественного в ходе становления новоевропейской науки (XVI–XVII вв.), а значит, замена физических объектов их математическими моделями и преобразование политико-правовых, социальных, образовательных и др. практик на нормативно-телеологических началах этики протестантизма и идеологии первых буржуазных революций ознаменовалось с одной стороны оформлением альтернативы культуры и цивилизации, а с другой – утратой представлений о техниках (эпистемологических, логических, онтологических) их различения и идентификации. Отождествление «естественного» со всеми видами реальности, отвечающими требованиям «научной рациональности» (Просвещение) или же признание «всего действительного разумным» (Гегель) способствовало лишь росту неопределенности границ между своеволием цивилизационного произвола и природосообразными, антропологически аутентичными стратегиями социокультурных устремлений общества [4, с.186– 203]. Зоны их неразличимости оказались чреватыми антагонизмами естественных и искусственных, социокультурных и цивилизационных компонентов и образовали антропологически агрессивную среду, насыщенную интенциями масштабных духовных и жизненно-практических кризисов. Поскольку же научные знания сами по себе не содержат указания на способы и границы их применения, [5, с. 11] то и более чем 300-летняя история европейских технических цивилизаций изобилует примерами построения и практической реализации физико-математических или эволюционно-биологических, социокультурных, политико-экономических, экологических и др. социально-экономических, научно-обоснованных проектов, угрожающих самому существованию человеческого рода [6].
Иллюстрацией вытекающих отсюда возможных следствий может служить европейский опыт движения за биологическое усовершенствование человека путем позитивной и негативной селекции. Основатели расовой гигиены в Германии (Шальмайер В., Вольтман Л. и др.) требовали введения жёсткого государственного контроля за генетическим составом человеческих популяций. Книга Ф. Ленца «Отбор у человека и расовая гигиена» (1921 г.) хотя и противоречила нормам морали, тем не менее, получила поддержку ученых и политиков, оказала огромное влияние на формирование идеологии и практики биологического «оздоровления» населения третьего рейха. Как известно, Веймарская евгеника и расовая гигиена мотивировали предложение закона о стерилизации людей с физическими и психическими недостатками, а затем и формирование расового законодательства гитлеровской Германии [7].
Итоги практик расовой гигиены в Германии поражают чудовищными масштабами антропологической агрессии: это от 300 до 400 тысяч стерилизованных в соответствии с законом 1934 г., 210 тысяч расстрелянных, отравленных газом и умо- ренных голодом пациентов психиатрических лечебниц (до 1945 г.), до конца войны уничтожено 6 миллионов евреев, сотни тысяч цыган и других представителей «низшей расы».
Государственные программы «практической евгенической политики» разработанные на основе антропометрических идей Ф. Гальтона, а также новейших достижений в области генетики, экологии и эволюционной теории были приняты и реализовались в 20–30-е годы в таких странах Европы, как Дания, Швеция, Норвегия, Латвия, Эстония. Американскому евгеническому обществу удалось провести в ряде штатов законы о принудительной стерилизации лиц, «наносящих ущерб генофонду населения страны». Только до 1920 г. принудительной стерилизации было подвергнуто 3233 гражданина США [7, с. 19].
Однако бесплодными оказались попытки внедрить евгенические мероприятия в СССР. В частности, авторитетные отечественные биологи-эволюционисты Н.К. Кольцов, А.С. Серебровский и Ю.А. Филипченко отстаивали евгенические идеи, считая, что путем стерилизации, искусственного оплодотворения и подбора пар можно не только преодолеть болезни, но и создать нового человека – строителя коммунизма. Несмотря на столь впечатляющие перспективы, евгеника, тем не менее, была осуждена, а её институции (общества, учреждения, печатные издания) были закрыты.
Сходные, но уже развёртывающиеся в пространстве технократических иллюзий идеи отстаиваются и сейчас сторонниками, так называемого, трансгуманизма. По их мнению, современный и вполне закономерный этап эволюции человека знаменуется практиками его технико-технологических преобразований в целях роста приспособленности к изменяющимся под влиянием научно-технического прогресса условиям окружающей среды. Общим для обеих позиций является признание необходимости формирования нового физического типа человека.
Полифония сценариев экологического будущего человечества, антропо-экологические доктрины евгеники и трансгуманизма могут служить наглядной иллюстрацией эпистемологической ограниченности научной рациональности, ее превращения в систему едва ли не чисто инструментальных средств, подчиненных произволу эгоистических индивидуальных, или групповых интересов.
Общество
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2019
Апелляции к человеку, его познавательным и социально-практическим способностям ознаменовались «антропологическим поворотом» в западной философии. Благодаря недосягаемо высокому научному авторитету его инициаторов и непосредственных участников (С. Кьеркегор, Л. Фейербах, К. Маркс), а также единству их антропологических воззрений, несмотря на противоположность философских доктрин (экзистенциализм, философская антропрология, диалектический материализм), идеи эпистемиоло-гического приоритета и онтологической значимости человеческой субъективности осознаются как высшие телеологические задачи переосмысления оснований классической научной рациональности. Выдвинутые и обоснованные у истоков антропологического поворота представления о человеке как предметном, практическом существе мотивировали становление концепций неклассической и постнеклассической научной рациональности как выражения стремлений этического контроля аксиологически нейтральных, но антропо-экологически жизненно важных проектов математического естествознания. Поскольку же сущность предметно-практической деятельности состоит в ее социальности, то следовательно «...из определенной формы материального производства вытекает, во-первых, определенная структура общества, во-вторых, определенное отношение людей к природе» [8, с. 279]. Иначе говоря, кризисные явления во взаимоотношениях человека и природы являются ничем иным, как непосредственным выражением социальных антагонизмов, порождаемых капитализмом и рыночной экономикой. Это заключение совпадает с результатами новейших экологических прогнозов «Римского клуба», согласно которым «...рыночных механизм не может справиться с глобальными проблемами» [9, с. 39]. Сама возможность их разрешения находится в прямой зависимости не столько от истинностных оценок состояния окружающей среды и уровня технических средств борьбы с ее загрязнением, демографическими угрозами и др., сколько от степени гуманизации общественных отношений, нейтрализации свойственных капитализму межличностных и социальных конфликтов. Убедительная аргументация в пользу данного вывода развивается и в последнем, юбилейном докладе «Римского клуба» ‒ «Comе On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты» (январь 2018 г.). Авторы подчеркивают, что доклад является «...выражением идей передовой части мировой интеллектуальной и политической элиты». В контексте едва ли не уничтожающей критики капитализма в нем признается наличие непосредственной обусловленности кризисных явлений во взаимоотношениях человека и природы социальными антагонизмами современного классового общества и господствующей в нем идеологией неолиберализма. Со страниц доклада звучат призывы коренной смены парадигмаль-ных установок нынешних технических цивилизаций западного типа, и, прежде всего «вырожденного капитализма» (капитализма финансовых спекуляций), к неотложным действиям по созданию альтернативной капитализму экономики, к формированию условий «Нового Просвещения» (целостного, гуманистического, свободного от антропоцентризма), и «Нового образования», построенных на основе духовно-нравственных ценностей, отвечающих гуманистическим и социальным идеалам культурно-цивилизационной традиции.
Весьма симптоматичным является и характер постановки главного вопроса доклада: «Философские основания текущего состояния мира и эпистемологических условий его аутентичной осмысленности» [6].
Показательным является и смещение акцентов в распределении внимания между субъектом и объектом экологического мышления. Докладу свойственно стремление понять природу последнего в контексте анализа вопросов эпистемологии социальной субъективности.
Преодоление неопределенных и негативных социальных и экологических последствий научного и технико-технологического роста, становление научного знания как силы тотального сопротивления всем основным источникам социального зла предельно актуализирует задачи уяснения онтоэпистемологических условий различения и идентификаций продуктов цивилизационной и социокультурной эволюции, их гармонизации в составе жизни общества.
Вековые попытки преодоления проистекающих отсюда тенденций деградации и распада не достигают цели. Все апелляции к таким ценностям человеческой жизни и культуры, как «естественный свет разума», «природа человека», «естественное право», «естественная религия», «естест- венная нравственность» и др., остаются подобными гласу вопиющего в пустыне.
Есть основания считать, что даже не решение, а сколько-нибудь корректная постановка проблемы «деструктивной культуры» возможна лишь на путях последовательного превращения эпистемологических ресурсов современного научного знания в силу тотального сопротивления асоциальной энергетике симуляции, порождающей перцептивно-символический мир симулякров, принципиально не соотнесенных и несоотносимых с какой-либо естественной реальностью. [10, с. 25–30] Потребность уяснения их антропологического и социального смысла предельно актуализирует вопросы онтоэпистемоло-гических условий идентификации, определения места и социокультурного статуса референциально неосмысленных функций («цифровая экономика», «цифровое образовательное пространство», «общество знания» и др.). Именно они создают видимость наличия свойств субъектности у объектов, такими свойствами не обладающими. Отсюда ошибочные практики использования методов отдельных наук за пределами границ их применимости, а также неистребимости порочного опыта антипрофессионализма едва ли не во всех без исключения видах и духовного и материального производства.
Эффективное сопротивление социальному злу немыслимо, если оно не опирается на действие жесткой, бескомпромиссной силы научного знания в пространстве инициатив по образованию и воспитанию высоконравственной личности [1, c. 121]. Поэтому как во второй половине 19 столетия, так и сейчас «Смешно и жалко, больно и досадно слушать и читать, когда какой-нибудь литератор или наставник усиливается доказать, например, что французов в двенадцатом году побили морозы, что в истории все достойно насмешки и презрения, или с наслаждением развенчивает Державина, Карамзина, Пушкина, Жуковского, Гоголя....и это, поистине вандальское, все разрушающее, ничего не создающее направление нередко принимается у нас за признак высшего европейского образования» [12, с. 21].
Следует иметь в виду, что «...основания воспитания и цель его, а, следовательно, и его направление различны у каждого народа и определяются народным характером» [13, с. 117]. Попытки оправдания целесообразности межцивилизационных образовательных обменов как необходимого условия прогресса педагогических прак- тик за счет приобщения к неким общечеловеческим системам воспитания не только не согласуется, а прямо противоречит действительному положению дел. Ведь «... школьное воспитание далеко не составляет всего воспитания народа. Религия, природа, семейство, предания, поэзия, законы, промышленность, литература – все, из чего слагается историческая жизнь народа – составляет его действительную школу, перед силой которой, сила учебных заведений, особенно построенных на началах искусственных, совершенно ничтожна» [13, с. 123].
Именно такое понимание сути дела развивается и отстаивается русской философией, а в теоретическом наследии отечественной педагогической классики приобретает вид основополагающего методологического принципа, обеспечивающего возможность выявления и идентификации наряду с «естественными» «искусственных» систем воспитания. Исследование их природы, границ различия и тождества, осуществленное в фундаментальном труде К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» (т. 1–2, М., 1868–1869) содержит более чем убедительные доводы в пользу осторожного, критического отношения к новейшим изобретениям западно-европейского «педагогического авангарда» в силу его несовместимости с отечественной культурной и образовательной традицией. Критически неосмысленные образовательные инвестиции оказываются чреватыми отнюдь не благоприятными педагогическими последствиями, мотивируя деградацию и распад аксиологически значимых компонентов отечественной культуры.
Учитывая масштабы, угрозы искусственных систем воспитания самому существованию отечественной культуры, К.Д. Ушинский особо пристальное внимание уделял проблеме многообразия и единства европейского образовательного опыта с точки зрения его пространственно-временной динамики, тенденции дифференциации и интеграции на отдельных стадиях исторического процесса. В качестве важнейшего элемента стратегии научного поиска в данном направлении, Ушинский рассматривает исследования человека с позиции естествознания и социогумани-тарных наук. В противоположность историческим и современным формам образовательного антисциентизма он склонен придавать научным знаниям значение естественной основы сопротивления произ-
Общество
Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2019
волу групповых интересов и беспредметных педагогических фантазий.
Поскольку же «научные знания сами по себе не содержат указания на способы и границы их применимости» [15, с. 10], а аксиологически нейтральная «научная техника» «...вселяя в людей уверенность в том, что они в состоянии творить чудеса, не указывая какие чудеса следует творить» [15, с. 10], то возникает соблазн истолкования опытно-экспериментальных методов современного естествознания (генетика, нейрофизиология, биофизика, молекулярная биология и др.) с целью уже не воспитания, а выведения новой породы человека, отвечающей культурноцивилизационным потребностям сегодняшнего дня.
В идеях управляемой антропологической эволюции и технико-технологических ухищрениях трансгуманизма значение научной рациональности уподобляется «Богу-Творцу» мировых религий, определившему по словам одного из участников этого движения «...главным врагом человеческой расы – законы природы».
Тенденции реанимации давно дискредитировавших себя устремлений герметической философии, социалдарвинизма, евгеники, социальной гигиены, а сейчас еще и трасгуманизма разрешить проблемы общественного и индивидуального бытия человека техническими средствами биомедицинских усовершенствований служат выражением своего рода «одержимости» утопическими проектами сциентистско-технократических идеологий. И хотя идеи выведения «нового вида людей» не имеют ничего общего с достижениями современных естественно-научных исследований (эволюционная антропология, генетика человека, медицинская генетика, генетика популяций, теория эволюции и др.), тем не менее они остаются весьма привлекательными. Следование им в нынешних условиях подводит к заключению о необходимости «...либо изменить природу человека посредством реконструкции его генома... либо пойти по пути воплощения разума и личности в небиологической самоорганизующейся системе» [16].
Соединение современных научных и технологических «изобретений» с некоторыми из «воинствующих» идеологий последних десятилетий открывает реальную перспективу распада генетических оснований популяции Homo Sapiens, а, значит, и тотальной деградации созданной ею культуры. Ведь только антропологические намерения трансгуманистического движе- ния России – «Россия 2045», подлежащие реализации в рамках проекта «Аватар» предполагают ни много, ни мало создание технологий искусственного тела человека. Речь идет о коренных качественных преобразованиях человеческой телесности, несопоставимых по своим масштабам с эволюционными изменениями в известных к настоящему времени филогенетических линиях животного и растительного царств [17, с. 409–419].
Полифония сценариев образовательной модернизации и экологического будущего человечества, антропо-экологические доктрины евгеники и трансгуманизма могут служить наглядной иллюстрацией эпистемологической ограниченности научной рациональности, возможности ее превращения в систему едва ли не чисто инструментальных средств, подчиненных произволу отнюдь не человеколюбивых замыслов. Однако, порождающие их структуры не имеют ничего общего с научной рациональностью и укоренены в составе жизненных практик антагонистических обществ. Имманентные им социальные противоречия обнаруживающиеся в виде оппозиций и конфликтов между органической и разумной жизнью, телесной и душевно-духовной составляющими человеческого бытия, человеком и обществом, человеком и образованием и др., имеют двоякий смысл: движущих сил культурноцивилизационного роста и, одновременно, непосредственных причин деградации и распада его биологических оснований.
Первые шаги сопротивления проистекающим отсюда угрозам тотализации сил социального зла уже сделаны, но пока еще лишь посредством демонстрации хотя и важных, но еще не достаточно убедительных доводов в пользу реальности существования наряду с классической еще и неклассических типов научной рациональности [18, с. 215]. Дело в том, что их идентификация осуществляется отнюдь не на оценках событий имманентных эпистемологической эволюции научной рациональности, а служит выражением общественного к ней отношения под влиянием кризиса научно-технических цивилизаций и положительного восприятия антисциентистской (и антитехнократической) аргументации, развитой авторитетными философскими направлениями XX – начала XXI века (экзистенциализм, феноменология, герменевтическая философия, постструктурализм, постмодернизм и др.).
Есть основания утверждать, что «сопротивление злу» (А.И. Ильин) возможно не посредством внешнего аксиологического контроля научно-технической эволюции, а на путях актуализации духовнопрактических инициатив в пространстве образования (воспитания), охватывающего процессы развития в природе и обще- стве со стороны присущих им сил формообразующей активности, выражающейся в придании предметам «естественно возникшей» и «искусственно созданной» реальности ранее не свойственных новых образов.
Список литературы Сопротивление злу как проблема культурно-цивилизационных оснований научной рациональности
- Ильин, И.А. Путь духовного обновления // Ильин И.А. Путь к очевидности. - М.: Республика, 1993. - 431 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений // Избранные произведения в 3-х т. Т. 1. - М.: Издательство политической литературы, 1970. - С. 2-43.
- Платон. Государство // Соч. в 4-х т. Т.3. (часть 1). - М.: Мысль, 1971. - 687 с.
- Балахонский В.В., Бахтин М.В., Стрельченко В.И. Модели и философско-эпистемологические репрезентации истории. - М.: Энциклопедист-Максимум, 2017. - 373 с.
- ФейнМан Р., Лейтон Р., Сэндс М., ФейнМановские лекции по физике. Вып. 1-4. - М., 2016. - 277 с.
- Weizsacker E. Wijkman A. Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Springer. 2018.
- Люблинский, П.П. Евгенические тенденции и новейшее законодательство о детях // Русский евгенический журнал. - 1925. - Т. 3. - Вып. 1. - С. 19.
- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - Изд. 2-е. - Т. 3. - М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. - 630 с.
- Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 358 с.
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. - М.: Рипол-Классик, 2017. - 320 с.
- Стрельченко В.И. История, философия и эпистемология науки. Опыт концептуализации. - СПб., Астерион, 2019. - 490 с.
- Ушинский К.Д. Собр. соч. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1950. - Т.9. - 628 с.
- Ушинский К.Д. Собр. соч. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1952. - Т.11. - 728 с.
- Кант И. О педагогике // Трактаты и письма. - М.: Наука, 1980. - 712 с.
- Рассел Б. История западной философии. - М.: АСТ, 2018. - 1023 с.
- Дубровский Д.И. Природа человека, массовое сознание и глобальное будущее // Философские науки. - 2013, № 9. - С. 5-15.
- Колчинский Э.И. Единство эволюционной теории в разделенном мире. - СПб.: Нестор-История, 2014. - 822 с.
- Степин В.С. Теоретическое знание. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 744 с.