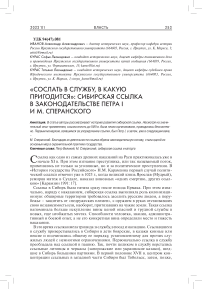"Сослать в службу, в какую пригодится": сибирская ссылка в законодательстве Петра I и М. Сперанского
Автор: Иванов Александр Александрович, Курас Софья Леонидовна, Курас Татьяна Леонидовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье авторы рассматривают историю развития сибирской ссылки. Несмотря значительный опыт применения, ссылка вплоть до XVIII в. была плохо организована, проводилась бессистемно. Первым монархом, взявшимся за упорядочение ссылки, был Петр I, а затем, уже в следующем веке, - М. Сперанский. Благодаря их деятельности ссылка обрела законодательную основу, стала одной из основных мер в охранительной практике государства.
Петр великий, м. сперанский, сибирская ссылка и каторга
Короткий адрес: https://sciup.org/170198081
IDR: 170198081 | УДК: 94(47).081 | DOI: 10.31171/vlast.v31i1.9494
Текст научной статьи "Сослать в службу, в какую пригодится": сибирская ссылка в законодательстве Петра I и М. Сперанского
С сылка как одно из самых древних наказаний на Руси практиковалась уже в начале XI в. При этом изгнание преступника, или так называемый поток, применялось не только за уголовные, но и за политические преступления. В «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина первый случай политической ссылки отмечен уже в 1023 г., когда великий князь Ярослав (Мудрый), усмиряя мятеж в Суздале, наказал виновных «одних смертию, других ссылкою» [Карамзин 1991: 17].
Ссылка в Сибирь была начата сразу после похода Ермака. При этом изначально, наряду с наказанием, сибирская ссылка выполняла роль колонизационную: обширные территории требовалось заселить русским людом, а пору-бежье – защитить от «недружеских племен», с оружием в руках отстаивавших свою независимость или, наоборот, притязавших на чужие земли. Такая ссылка напоминала больше искупление вины ценой опасной и трудной службы в новых, еще необжитых местах. Способности человека, знания, административный и боевой опыт, а не его конкретная вина определяли место и тяжесть наказания.
В это время ссылка имела три вида: в службу, в посад и на пашню. Ссылавшиеся в службу приверстывались в Сибири в дети боярские, в казаки конные или пешие и подчинялись общему ее порядку, установленному для прочих служилых людей с немногими ограничениями. Первоначально ссылка в службу преобладала над ссылкой в пашню. Так, почти целиком в службу верстались ссыльные литовцы и черкасы (запорожские или украинские казаки), шедшие в Сибирь большими партиями. В первой половине XVII в. центром концентрации ссыльных в западной части Сибири был Тобольск, затем, позже,
Енисейск. Первые ссыльные в Прибайкалье появились в северной части, на Лене, по всей видимости, в Илимском воеводстве. О систематической ссылке в эти края можно говорить применительно к 1640-м гг.
История Енисейска и Иркутска также напрямую связана с политической и уголовной ссылкой. Среди первых жителей этих острогов было много людей, сосланных сюда или в казачью службу, или в посад. Упомянем здесь лишь имя А.А. Барнешлева (Бурнашлева) – иностранца, принадлежавшего к богатой английской семье. В Москве Барнешлев вел переговоры с окружением царя о возможном строительстве в столице протестантских кирок, однако в 1645 г. он неожиданно для себя угодил в опалу и был сослан в далекий Енисейск. Здесь он принял православие, был поверстан в дети боярские, занимался поиском полезных ископаемых, нашел руду недалеко от города. Во второй половине 1660-х гг. Барнашлев был назначен стрелецким и казачьим головой в байкальские остроги; под его руководством был возведен новый Иркутский острог, здесь он командовал гарнизоном, а затем стал якутским воеводой [Гурулев 2011: 32-34]. В Сибири успешную карьеру делали многие политические ссыльные.
В конце XVII в., несмотря на столетний опыт применения ссылки в Сибирь, эта карательная и охранительная мера осуществлялась Московским государством крайне плохо. Сибирская ссылка велась бессистемно, неорганизованно. Какого-либо «пропитания» арестантам, отправленным в ссылку, не полагалось. Вместо этого им разрешалось христарадничать. Пересыльных и этапных тюрем не существовало, не было и этапного пути, и специальных конвойных команд. Назначенные в ссылку отправлялись за Урал по мере накопления в сопровождении «посыльщиков» – казаков, снаряжавшихся специально для конвоирования из центра страны в «украинные места». При этом нередко посыльщиками становились люди, следующие в Сибирь по своим делам, ничего общего с этапированием арестантов не имевших. В этом случае обязанности конвоя такие сопровождавшие выполняли попутно. Собственных документов у ссыльных не имелось, невозможно было определить, за что и куда он высылается. Зачастую и сам ссыльный не знал, куда его ведут, т.к. в указе значилось: «сослать в службу, в какую пригодится». Такой несовершенный характер управления ссылкой порождал массу беззакония – нередко сибирские чиновники разбирали себе арестантов в услужение, использовали для удовлетворения своих корыстных интересов.
Пенитенциарные потребности страны, а также дальнейшее освоение обширной территории Сибири и Дальнего Востока настоятельно требовали систематизации наказания ссылкой. Эта работа была начата Петром I. Прежде всего, следует подчеркнуть, что, в отличие от других венценосных особ династии Романовых, для Петра ссылка была не только удалением преступника на окраины империи, а в первую очередь наказанием, и наказанием, обязательно сопряженным с подневольным трудом. Вот почему в период правления Петра I получила значительное распространение практика замены смертной казни ссылкой на тяжелые работы.
Петр I значительно расширил и масштабы ссылки. Так, в артикуле воинском, к примеру, больше половины статей предполагали «лишение живота» или шпицрутены, а ссылка назначалась сравнительно редко и выступала наказанием второстепенным: из 250 статей ссылка полагалась лишь в 9 случаях. Однако внимательный анализ этих случаев свидетельствует, что именно они практиковались достаточно часто и, главное, захватывали самые широкие слои населения, тем самым значительно увеличивая число ссыльных. Артикул 63-й был направлен против уклонения от рекрутской повинности. «Кто себя больным нарочно учинит, или суставы свои переломает, и к службе непотребными сочинит, или лошадь свою самовольно испортит в том мнении, чтоб отставлену быть от службы, оному надлежит ноздри распороть, и потом его на каторгу сослать». Артикул 189-й предусматривал ответственность за «грабительство и воровство»: «Ежеле кто в воровстве поиман будет, а число краденого более двадцати рублев не превозайдет, то надлежит вора в первую шестью сквозь полк прогнать шпицрутен, вдругоредь двенадцотью, а втретие, отрезав нос и уши, сослать на каторгу». Толкование к этому артикулу полагало наказание и тем, «которые в воровстве вспомогали, или о воровстве ведали, и от того часть получили, или краденое добровольно приняли, спрятали и утаили» [Российское законодательство… 1986: 359, 362].
Продолжительный путь в Сибирь настоятельно требовал должной организации: определенного порядка отправления, строительства специальных помещений для ночлега арестантов, постоянной конвойной команды. Понимая важность этой масштабной задачи, Петр I выступает инициатором строительства пересыльных тюрем. Вот наказ верхотурским воеводам от 1 сентября 1697 г.: «А для присланных вновь в сибирские городы всяких ссыльных людей на Верхотурье в пристойном месте сделать тюрьму крепкую и держать ново-присланных ссыльных людей, до отпусков в низовые сибирские городы, в той тюрьме с великим береженьем, за сторожью верхотурских служилых людей, а как приспеет время отпуску их в низовые сибирские городы, и их отпускать в те городы по московским росписям, кого куда сослать будет указано… по тому же за караулом. А на Верхотурье и в слободах новоприсланных ссыльных людей, без указу великого государя и грамот из Сибирского приказу, не оставливать и на всякие чины и пашню не верстать» [Катионов 2004: 349].
Указ примечательный. Документ не только обязывает строить пересыльные тюрьмы в Сибири, но и создавать при них команды из «служивых людей» для «бережения» и препровождения арестантов по Московскому тракту. При этом ссыльные должны следовать к месту назначения в определенные дни («как приспеет время»), с необходимыми документами – «московскими росписями», в которых бы значилось, куда идет ссыльный, что исключало бы возможность оставления его по дороге и «использования» не по назначению. Как видим, Петр I последовательно создает законодательную основу ссылки, стремится придать ей регулярный, систематический характер.
Наконец, с именем Петра Великого связано учреждение нового, до этого не практиковавшегося в России вида ссылки – каторги. В каторгу, т.е. на тяжелые работы, ассоциировавшиеся с трудом невольников на гребных судах (каторгах, галерах) в Античное время и в Средневековье, при Петре стали отправлять как уголовных преступников, так и ни в чем не повинных людей. Тысячи крестьян сгоняли на сооружение морских портов на Балтике, на строительство судов, в т.ч. и галерных. О масштабах ссылки на каторгу может свидетельствовать то, что только в Рогервик, порт и крепость на берегу Финского залива, ежегодно поступало до 600 каторжных [Фойницкий 1889: 168].
Используя каторгу как источник дешевой рабочей силы, Петр I принял ряд указов для ее распространения и в Сибири. В январе 1708 г. предписывалось селить крестьян с женами и детьми на заводских пашнях. Указ Петра от 18 января 1721 г. «О покупке купечеству к заводам деревень» разрешал «как шляхетству, так и купецким людям к ‹…› заводам деревни покупать ‹…› дабы те деревни всегда были уже при тех заводах неотложно», при этом крестьяне прикреплялись к заводам «вечно», их дети также обязаны были с подросткового возраста работать здесь же. В апреле 1722 г. Петр принял указ «О ссылке пре- ступников в Дауры на серебряные заводы; и о переводе 300 семейств туда же для поселения на удобных к хлебопашеству землях». «Которые ныне освобождены от каторжной работы, – говорилось в документе, – и определены послать в Сибирь в дальные города, оных послать и впредь таковых посылать с женами и детьми в Дауры на серебреные заводы» [Законодательство Петра I… 1997: 709, 736].
Каторжные строили сибирские крепости, широко использовались на горнодобывающих, железоделательных, винокуренных, солеваренных, фарфорофаянсовых и стеклоделательных заводах и полотняных фабриках, на сооружении дорог. С известной долей преувеличения можно сказать, что именно каторжные, отправляемые в Сибирь Петром Первым и последующими монархами, стали основой формирования промышленных рабочих обширного региона.
Петр Великий, всемерно укрепляя могущество империи, для развития новых, порубежных земель активно использовал и труд пленных, в первую очередь шведов. Так, в 1711 г. в Сибирь было сослано от 20 до 25 тыс. солдат армии Карла XII. Сначала каролины размещались на Волге, затем были отправлены за Урал. Самое большое число пленных – до 1 тыс. чел. – осело в Тобольске, однако кроме этого шведов размещали в Нарыме, Березове, Таре, Томске, Енисейске, Туруханске, Иркутске, Нерчинске, Якутске, Селенгинске, Илимске, Киренске. На местах постепенно складывалась система надзора за столь значительным контингентом поселенцев: сибирские власти были обязаны наблюдать за их размещением, предотвращать возможные побеги, выплачивать «кормовое довольствие», а также собирать их письма, написанные на родину. При этом вся корреспонденция сначала сосредоточивалась в Петербурге, просматривалась на предмет отсутствия «секретных сведений» и лишь затем отправлялась за границу [Шебалдина 2005: 44]. Подчеркнем особо: именно на таких принципах строился затем полицейский надзор в Сибири за декабристами, народниками, социалистами XIX – начала ХХ в.
После смерти Петра процесс упорядочения наказания ссылкой был приостановлен, ссылка скорее «прирастала» количественно, чем менялась к лучшему ее организация. Значительно увеличил масштабы сибирской ссылки указ от 13 декабря 1760 г. «О приеме в Сибирь на поселение от помещиков, дворцовых, синодальных, архиерейских, монастырских, купеческих и государственных крестьян, с зачетом их за рекрут». Как известно, помещикам предоставлялось право самостоятельно определять состав преступления своего крепостного и наказывать его ссылкой в Сибирь. Местом для ссылки первоначально был определен Нерчинский уезд. Партии ссыльных должны были идти через Калугу по Оке и Волге до Казани, от Казани Камой до Нового Усолья, далее пешком до Верхотурья, затем по сибирским рекам до Тобольска и через Томск до Иркутска и Нерчинска. По подсчетам А.Д. Колесникова, с 1761 по 1782 г. в Сибирь, согласно «рекрутским указам», было отправлено не менее 35 тыс. душ мужского пола. Если учесть, что нередко мужчины следовали в ссылку с семьями, можно предположить, что за 20 лет в регион прибыли около 50 тыс. ссыльных и членов их семей [Колесников 1973: 348, 350].
Ссылка в Сибирь все более становилась массовым явлением русской жизни. Между тем ее организация по-прежнему страдала непоследовательностью, отсутствием централизованного руководства, а главное – единой законодательной базы, способной сделать ее важнейшей частью государственной внутренней политики. Существенное упорядочение сибирской ссылки предприняли только в 20-х гг. XIX в., что было связано с именем М.М. Сперанского.
Действительный статский советник, автор ряда проектов по переустройству России, сподвижник Александра I М.М. Сперанский знал о сибирской ссылке не понаслышке: попав в опалу, в 1812 г. он был отправлен в Нижний Новгород, а затем в Пермь, где испытал немало тягот как лишенный власти знатный политический ссыльный. Затем его вернули в большую политику, а в марте 1819 г. поручили возглавить ревизию Сибири, назначив сибирским генерал-губернатором. Живя в Иркутске, Сперанский вместе с будущим декабристом Г.С. Батеньковым подготовили пакет реформ, обеспечивавших управление и правовое развитие далекой окраины, вошедший в историю как Сибирское учреждение. Сибирские реформы Сперанского 1822 г. не только дали значительный импульс социально-экономическому, политическому и культурному развитию края, но стали первым опытом регионального законодательства, созданного на сибирском материале [Дамешек, Дамешек, Перцева 2017: 12].
Частью Сибирского учреждения были Устав о ссыльных и Устав об этапах в сибирских губерниях, призванные внести в «ссыльное дело» столь недостающий правовой и управленческий порядок, обеспечить материальными, финансовыми и людскими ресурсами. Прежде всего, в уставах были определены общие принципы, полномочия и характер работы органов управления ссылкой. Согласно законодательным актам, для приема, распределения и учета ссыльных создавался Тобольский приказ, на местах – ряд экспедиций о ссыльных: казанская, томская, енисейская и иркутская, а на самом Московском тракте и его ответвлениях – этапные и полуэтапные помещения, располагавшиеся друг от друга на расстоянии в 15–30 верст – именно столько могли пройти арестанты за световой день1.
Тобольский приказ о ссыльных получал из судебных учреждений России специальные извещения о приговоренных к каторге и ссылаемых на поселение. На основании этих документов приказ и распределял всех направляемых на каторгу и в ссылку уже по конкретным губерниям Сибири. Само распределение отнимало много времени, что приводило к длительному ожиданию и скоплению в городе массы ссыльных. Приказ обвиняли в излишней бюрократической волоките, медлительности, отсутствии строгой отчетности и даже в регулярной задержке денежных средств, пересылаемых вслед за ссыльными до места приписки [Рощевская 1976].
Высочайше утвержденный Устав о ссыльных, имея 435 параграфов, прежде всего четко прописал виды этого наказания: «Ссылка в Сибирь есть двоякая: 1) в каторжную работу; 2) на поселение». Та и другая определяются не иначе как приговором судебных мест». При формировании этапных партий составлялся партионный список, с которым ссыльные и следовали в Сибирь. Устав впервые подразделял каторжан на разряды согласно тяжести совершенных ими преступлений – для работы на заводах, для строительства дорог, служащих в качестве прислуги, живущих сельскохозяйственным трудом, наконец, больных, о которых следовало проявлять заботу.
Согласно Уставу, все сосланные в Сибирь делились на несколько разрядов. В зависимости от разряда определялась и продолжительность ссылки, а также льготы, права и обязанности осужденных. Одним из главных, стержневых условий нового Устава стало требование обязательного труда. Таким образом, надо признать, что впервые за более чем двухсотлетнее существование сибирской ссылки были сделаны реальные шаги к упорядочению этого института, к уменьшению произвола местных чиновников. Впервые у ссыльных появились и документы – статейный список с указанием имени и фамилии, места рождения и наименованием преступления, за которое он осужден.
К Уставу о ссыльных примыкал Устав об этапах в сибирских губерниях, который предусматривал устройство «от границы Пермской губернии с Тобольскою до города Иркутска» этапных тюрем. На этапы распределялись команды из «регулярного пехотного войска» – «один офицер, два унтер-офицера, 1 барабанщик и 25 рядовых пеших солдат». § 42 предусматривал, что каждая команда сопровождает арестантов в течение четырех суток, а на пятые возвращается назад, сдав партию следующей команде. В уставе подробно расписывались права и обязанности этапного начальника: следить за порядком, делать регулярную поверку арестантам, в случае «неповиновения» ссыльных «привести в послушание легким телесным наказанием» и пр.1
Несмотря на четкое разделение ссыльных по разрядам и, как казалось, детально проработанный порядок этапирования, поселения и трудоустройства, уставы уже в первый год после утверждения и вступления в юридическую силу показали свою практическую несостоятельность. Упорядочив систему этого наказания, Сперанский не учел главного – все возраставших масштабов ссылки, а также того, что местные промышленные предприятия просто не в силах были обеспечить работой такое число осужденных. Так, если в 1812–1821 гг. за Уральский камень было отправлено 39 761 чел., то в следующем десятилетии – 91 709, а в 1832–1841 гг. – еще 78 823. Всего же с 1807 по 1881 г. Сибирь приняла 635 319 ссыльных [Марголис 1995: 30]. Значительный и практически неконтролируемый приток ссыльных в Сибирь за короткое время сделал Устав 1822 г. устаревшим. Однако Устав не был отменен, но постоянно дополнялся: статьи, не соответствующие действительности, заменялись другими, современными. В следующей редакции Устав о ссыльных был издан в 1857 г., затем в 1909 и 1913.
Как следует из изложенного материала, ссылка – одно из древних наказаний, применявшееся в нашей стране с XI в. Тема ссылки продолжает быть актуальной и изучаться современными исследователями [Иванов, Курас, Курас 2022: 397]. Сибирская ссылка появилась сразу же после присоединения к Московскому государству огромного региона. Ссылка в Сибирь всегда преследовала, по крайней мере, две цели – наказание и изоляцию преступного элемента, с одной стороны, и штрафную колонизацию и экономическое освоение окраины – с другой. Начало упорядочению ссыльного дела положил Петр I, законодательно определив необходимость строительства пересыльных тюрем, организацию этапных команд, систему надзора на месте поселения. При Петре I появилась и каторга как часть ссылки, подразумевавшая тяжелый принудительный труд.
Дальнейшее правовое обеспечение ссылки в Сибирь предпринял М.М. Сперанский, который совместно с Г.С. Батеньковым подготовил и реализовал уставы о ссыльных и этапах, значительно укрепившие правовую базу этого наказания, способствовавшие улучшению управления ссылкой и превращению ее в важную часть внутренней политики государства. Между тем реальные объемы уголовной ссылки в Сибирь сделали уставы мало пригодными для практического применения. Тем не менее эти уставы, постоянно совершенствуясь, просуществовали вплоть до 1917 г. Сибирской ссылке недоставало должной организации, правового обеспечения и денежных средств для полноценной реализации в качестве составной части пенитенциарной системы.
Список литературы "Сослать в службу, в какую пригодится": сибирская ссылка в законодательстве Петра I и М. Сперанского
- Гурулев С.А. 2011. Первые иркутяне. Иркутск: ИОГАУК АЭМ «Тальцы». 412 с.
- Дамешек Л.М., Дамешек И.Л., Перцева Т.А. 2017. Сибирские реформы М.М. Сперанского 1822 г.: опыт административного регулирования интересов центра и региона. Иркутск: Изд-во ИГУ. 339 с.
- Законодательство Петра I(ответ. ред. А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая). 1997. М.: Юридическая литература. 878 с.
- Иванов А.А., Курас С.Л., Курас Т.Л. 2022. Сибирская ссылка в отечественной историографии 1990-2010-х годов. - Научный диалог. Т. 11. № 1. С. 395-413.
- Карамзин Н.М. 1991. История государства Российского. М.: Наука. Т. II— III. 832 с.
- Катионов О.Н. 2004. Московско-Сибирский тракт и его жители в XVII—XIXв. Новосибирск: Изд-во НГПУ. 568 с.
- Колесников А.Д. 1973. Русское население Западной Сибири в XVIII — начале XIXвв. Омск: Западно-Сибирское книжное изд-во. 419 с.
- Марголис А.Д. 1995. Тюрьма и ссылка в императорской России: исследования и архивные находки. М.: Лантерна; Вита. 207 с.
- Российское законодательство X— XX веков. В девяти томах. T. 4. Законодательство периода становления абсолютизма (ответ. ред. А.Г. Маньков). 1986. М.: Юридическая литература. 511 с.
- Рощевская Л.П. 1976. Последний осколок приказной системы. — Вопросы истории. № 12. С. 203-208.
- Фойницкий И.Я. 1889. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб: Тип. Министерства путей сообщения (А. Бенке). 504 с.
- Шебалдина Г.В. 2005. Шведские военнопленные в Сибири в первой четверти XVIIIвека. М.: Изд-во РГГУ. 209 с.