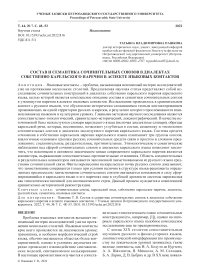Состав и семантика сочинительных союзов в диалектах собственно карельского наречия в аспекте языковых контактов
Автор: Пашкова Т.В.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Вопросы карельской диалектологии
Статья в выпуске: 7 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Языковые контакты - проблема, вызывающая неизменный интерес исследователей уже на протяжении нескольких столетий. Предлагаемая научная статья представляет собой исследование сочинительных конструкций в диалектах собственно карельского наречия карельского языка, целью которой является комплексное описание состава и семантики сочинительных союзов в упомянутом наречии в аспекте языковых контактов. Исследование проводилось в сравнительном аспекте с русским языком, что обусловлено исторически сложившимся тесным контактированием проживающих на одной территории русских и карелов, в результате которого прослеживаются взаимовлияния на языковом и культурном уровнях. Главными методами научного исследования являются сопоставительно-типологический, сравнительно-исторический, лексикографический. В качестве ис-точниковой базы используются словари карельского языка (включая диалектные словари), образцы карельской речи, которые, несомненно, позволяют углубиться в состав, семантику и этимологию сочинительных союзов в диалектах исследуемого наречия карельского языка. Система средств сочинения в собственно карельском наречии карельского языка охватывает три группы союзов, аналогичные основным группам русских сочинительных средств связи в простом и сложном предложениях: соединительные, разделительные, противительные. Этимологические и семантические наблюдения над сферой сочинительных союзов в диалектах карельского языка позволяют заключить, что исконными в активном лексическом запасе современного карельского наречия являются коннекторы, выражающие сопоставительно-противительные отношения. Область соединительных и разделительных коннекторов оказывается заполненной заимствованными из русского языка средствами сочинительной связи. Факты перенесения на карельскую почву русских союзов доказывают, что заимствование совершается только при условии наличия в структуре языка-реципиента определенных предпосылок: заимствование сочинительных союзов оказывается возможным в силу сформировавшейся в карельском языке и его наречиях еще в глубокой древности системы паратаксиса как типологически значимой для синтаксического строя. Данный процесс нуждается в комплексной сравнительно-исторической реконструкции.
Сочинительные союзы, карельский язык, собственно карельское наречие, диалекты, русский язык, семантика, языковые контакты
Короткий адрес: https://sciup.org/147240290
IDR: 147240290 | УДК: 811.511 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.816
Текст научной статьи Состав и семантика сочинительных союзов в диалектах собственно карельского наречия в аспекте языковых контактов
Проблема языковых контактов вызывает неизменный интерес исследователей уже на протяжении нескольких столетий. Языковые контакты ярче всего проявляются на лексическом уровне; грамматика, и особенно морфологический строй языка, обычно оказывается областью более консервативной, однако в условиях двуязычия нередко происходит взаимодействие синтаксических моделей, синтаксическое калькирование. В настоящее время активно изучаются в сопоста- вительно-типологическом плане сочинительные конструкции (см., например, [1]), однако на материале карельского языка подобное комплексное исследование еще не предпринималось.
С конца XIX столетия сопоставительным изучением русского и финно-угорских языков, лингвистической интерференции (по преимуществу на лексическом уровне) занимались такие видные лингвисты, как И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. А. Шахматов, Я. Миккола, А. М. Селищев, Б. А. Ларин, Д. В . Бубрих и др. В ХХ веке появля- ются исследования грамматического взаимодействия русского и прибалтийско-финских языков, однако диалектный материал затрагивается спо-радически1 (см., например, [7] и др.).
В представленной статье рассматриваются сочинительные союзы в диалектах собственно карельского наречия карельского языка, в том числе в аспекте их этимологии и влияния русского языка (на материале ливвиковского наречия аналогичное исследование уже проводилось, см. [9]).
Теоретические сведения о синтаксических особенностях собственно карельского наречия достаточно скудны в созданных в течение последних десятилетий грамматиках карельского языка, например, в написанных на материале севернокарельских диалектов, охватывающих территории Калевальского и Лоухского районов Республики Карелии, работах П. М. Зайкова [3], [14], [15]. В 1977 году В. Д. Рягоевым было опубликовано обобщающее лингвистическое исследование в очерковой форме, посвященное тихвинскому говору карельского языка2. В работе П. Палмеос представлен анализ союзов валдайских говоров собственно карельского наречия3. Монография А. П. Родионовой «Семантика карельской грамматики» включает сравнительно-сопоставительный диалектный материал по предложно-падежным конструкциям, охватывающий разные наречия карельского языка [11]. Из синтаксических феноменов карельского языка наиболее изучены связи и функции отдельных морфологических форм, система падежного управления, а также некоторые структурные типы предложения. Единственное системное, хотя и недетализированное описание синтаксиса карельского языка представлено в научном труде В. П. Федотовой [13]. Актуальность исследования сложного предложения на материале собственно карельского наречия обусловлена тем, что синтаксис карельского языка и – шире – синтаксис некоторых других финно-угорских языков в целом исследованы гораздо менее детально4 (см., например, [5], [9], [10] и др.), чем морфологический, лексический и фонетический5 [2], [8] уровни.
При проведении исследования по классификации союзов и союзных слов использовались теоретические источники по вопросам синтаксиса в русском и карельском языках [3], [4], [6], [13]. Языковые примеры извлекались из лингвистических источников6, а также нормированных грамматик собственно карельского наречия [14], [15]. Исследование выполнено с применением семантического, этимологического и сопоставительнотипологического методов.
***
По предложенной П. М. Зайковым [3: 98–99], [14: 78], [15: 138] классификации сочинительные союзы по значению разделяются на три функционально-семантические подгруппы: соединительные, разделительные и противительные, что соответствует традиционной классификации союзов, характерной также, например, для русского, немецкого, французского и других языков типологически далекой индоевропейской семьи. Сведения из лингвистических источников позволяют представить следующий состав сочинительных союзов собственно карельского наречия.
-
1) Соединительные союзы : ta ‘да, и’ (Калевала, Вокнаволок, Кестеньга) poika on kašvan ta harteutun (Калевала) ‘парень вырос да ( и ) стал плечистым’7; da ‘да, и’ (Панозеро, Тихвин, Тверь) verkkuo piemmä rannoissa da lakšiloissa (Панозеро) ‘сети мы держим по берегам и в заливах’8; i ‘и’ (повсеместно на территории бытования собственно карельских говоров (далее – повсеместно)) aššumma i juokšemma (Калевала) ‘ходим и бега-ем’9, šeinäzet šalvettu i närien ketulla katettu (Тихвин) ‘стенки срублены, и еловой корой [крыша] покрыта’10, keviäl’l’ä kyn’n’et’t’ih adralla i aštoidih puuhizella aštovalla (Тверь) ‘весной пахали сохой и боронили деревянной бороной’11; ni… ni ‘ни… ни’ (севернокарельские диалекты, Тихвин) hänellä ei ollun ni tuattuo ni muamuo (севернокарельские диалекты) ‘у него не было ни отца, ни матери’12.
-
2) Разделительные союзы : el’i ‘или’ (Калевала, Вокнаволок, Кестеньга) miekö tulen siun luoksi el’i siekö tulet meilä? (Калевала) ‘я ли приду к тебе или ты придешь к нам?’13; al’i ‘или’ (Тихвин, Тверь) metrov d’es’at’ al’i dvadsat’ šūri näre ‘метров десять или двадцать большая ель’14, istujah jän’iks’eh al’i t’edrih pid’äy hil’l’azeh männä (Тверь) ‘к сидящему зайцу или тетереву надо подкрадываться осторожно’15; eli... eli ‘или... или’ (на территории Калевальского и Лоухского районов) eli ossa tämä veneh, eli mane tiehes ‘ или покупай эту лодку, или иди своей дорогой’; ili ‘или’ (Подужемье, Тунгуда, Тверь) miekö tulen siun luo ili sie tulet meilä? ‘я ли приду к тебе или ты придешь к нам?’ [15: 138]; elikkä ‘или’ (Калевала, Вокнаволок, Кестеньга) tule rutompah, el’ikkä mie mänen (Калевала) ‘иди быстрее, или я уйду’16; vai ‘или’ (на территории Калевальского и Ло-ухского районов) latvat otat vai tyven? ‘вершки возьмешь или корешки?’17; l’ibo ‘или, либо’ (Тихвин) joga vuotta kenen nibuite upottā l’ibo kažin l’ibo kenen (Тихвин) ‘каждый год кого-нибудь утопит: либо (или) кошку, либо (или) еще кого-нибудь’; ei n’i ‘а не то, или’ (Тихвин) el’ä juo vel’l’i ei n’i varžane l’ienet (Тихвин) ‘не пей, братец, а не то в жеребенка превратишься’18.
-
3) Противительные союзы : a ‘а, но’ (повсеместно) ken kunne, a myö kot’ih (Калевала) ‘кто куда, а мы домой’; ka (Калевала, Вокнаволок,
Кестеньга, Юшкозеро, Ондозеро, Паданы, Тун-гуда); ga (Ондозеро, Паданы, Тунгуда) ‘но, да’ lähellä on kyynäšpiä, ka et pure (Калевала) ‘близко локоть, да не укусишь’, lapšet tultih kot’ih, ka mie enkuullun (Калевала) ‘дети пришли домой, но я не услышала’19; vain ‘но’ (повсеместно), ‘только’ (Тихвин, Тверь); no (Тихвин) ‘но’ i suvačči i kaikki, no ožua ei tullun (Тихвин) ‘и любил он и все, но счастья не получилось’; составной союз a ei što (Тихвин) ‘а не то что’ nyt omašta otvečaičet, a ei što vierahašta (Тихвин) ‘теперь за своего отвечаешь, а не то что за чужого’20, используемый в сопоставительно-присоединительном значении – при присоединении однородного члена предложения при отрицательном сравнении его с другим(и) однородным(и) членом(ами); onnako ‘зато (но, в то же время ‘однако’)’ (севернокарельские диалекты) korttieri vaikka on kallis, onnako / ka on hyvä (севернокарельские диалекты) ‘квартира хоть и дорогая, зато хорошая’21.
Исследователь тихвинского говора карельского языка В. Д. Рягоев обращает внимание на то, что в описываемом им говоре вычленяется четыре группы сочинительных союзов: соединительные, разделительные, противительные и пояснительные. Согласно В. Д. Рягоеву, к четвертой функциональной подгруппе относятся: nin ze ‘также, тоже’ (Тихвин) (данный союз В. Д. Рягоев относит также к соединительным союзам) nin; ni... ni ‘как... так’ (Тихвин) ni vedi ni t’el’gasta viel’ä jallat riputtiį šur’ ol’i (Тихвин) ‘ как вез, так с телеги еще ноги висели – такой был большой (медведь)’; ka ‘так’ (Тихвин) ńel’l’ä kondįeda hyö tapettih, ka mium pojat (Тихвин) ‘ так четырех медведей они убили, мои сыновья’; što ‘что’ (Тихвин) mytyttä pakšua pūda pila šyöh, što hän eįstyh i eįstū (Тихвин) ‘какое толстое дерево пила пилит (букв. ‘ест’), что она углубляется и углубляется’22 (союз što ‘что’ употребляется в таком же значении и в других говорах собственно карельского наречия: što ‘что’ (Мянду-сельга, Ондозеро, Тунгуда, Тверь) siid’ä tulou, što kirvehel’l’ä l’iiga pid’au l’eikata (Мяндусельга) ‘получается так, что топором лишнее приходится отрубать’, šiin’ä hän it’ki n’iin lujašti, što unohtaudu (Тунгуда) ‘тут она причитывала так сильно, что сознание потеряла’23, mie en kuullun, što paimen šoitti bremozeh (Тверь) ‘я не услышал, что пастух играл в рожок’24.
П. М. Зайков не относит союз što ни к одной из групп союзов. Приводимые В. Д. Рягоевым примеры между тем свидетельствуют об иной функционально-семантической роли данных союзов: так, союз nin ze ‘также’ (Тихвин) выступает в присоединительном значении, близком к значениям таких союзов, как tai ‘да и’ (Калевала, Вокнаволок, Кестеньга) ol’i parempaiset ne koššot piällä tai räččinät (Калевала) ‘были получше на себе те сарафаны да и рубахи’; dai ‘да и’ (Ондозеро, Паданы, Поросозеро, Ругозе-ро, Тикша, Тунгуда, Юшкозеро, Тверь) dai vie kyl’yssä ol’in (Паданы) ‘да и в бане еще был я’, dai n’iät hyvyä dai pahua (Юшкозеро) ‘увидишь хорошее да и плохое’25, tulda räis’käi, dai ukko jyräht’i (Тверь) ‘сверкнула молния, да и прогремел гром’26; da i ‘да и’ (Тихвин) valettih tinua da i oldih i kūndelemašša (Тихвин) ‘они лили свинец, да и слушать ходили’27. Союзы ni... ni и sto по значению и употреблению оказываются явно подчинительными (временным и результативноследственным соответственно); служебное слово ka выступает в функции, близкой к частице. Также подчинительным уступительным, а не разделительным (как считает П. М. Зайков) является союз vaikka ‘хотя, хоть’ (Калевала, Вокнаволок, Кестеньга, Контокки, Софпорог, Тикша, Тунгуда) (puhtahana piettih, vaikka ei ollut monta kamarie (Контокки) ‘чисто содержали, хотя не было много комнат’28, vaikka ken tulkah rotn’a, n’in še on at’ivo (Софпорог) ‘хоть кто бы не пришел из родственников, так это гость’29. То же самое можно заключить и в отношении ошибочно отнесенного В. Д. Рягоевым к сочинительным союза hot’, hot (повсеместно); hod (Сельга) ‘хотя’: hot’ siičča rojinnou morhalla, n’i vain aššut (Паданы) ‘хотя сарафан мятый, знай шагаешь’, tullaa vaštaa, hod miuda, hod toista, hod ked’ä vaššataa (Сельга) ‘идут навстречу, хоть меня, хоть другого, хоть кого встречают’; hot’i ‘хотя’ (Калевала, Кестень-га, Вокнаволок, Гайколя, Подужемье, Ругозе-ро) etkö šua hot’i jauhuo rokakši ‘не достанешь ли хотя муки на похлебку’; hoš (повсеместно), hos (Поросозеро, Реболы), hos’ (Тверь) ‘хотя, хоть’: hoš kuin pikkarain’i as’s’a, n’iin juokšen (Во-кнаволок) ‘хотя какое маленькое дело, так бегу’30, vihmat hos’ i oldih, a hein’iä šaimma (Тверь) ‘дожди хотя и были, но сено мы заготовили’31 (у русского союза и, впрочем, также фиксируется уступительное значение32). Собственно пояснительные отношения выражаются союзом vain ‘а именно’ (севернокарельские диалекты): ei niminä toisena päivänä vain tänäpiänä ‘ни в какой другой день, а именно сегодня’33.
Возможно, стоит не только уточнить состав пояснительных союзов, но и расширить данную классификацию введением особой рубрики: градационные союзы šekä , jotta ; niin kuin , niin ni ; niin kuin , šamoin ni ‘как…, так и’ (севернокарельские диалекты): heinällä ollešša olin šekä Venehjärveššä jotta Vuokkiniemeššä (Вокнаволок)
‘будучи на сенокосе, я был как в Суднозеро, так и в Вокнаволоке’34; ei vain…, ka ‘не только…, но и’; einiin kuin ‘не столько…, сколько’.
Заключая обзор семантики сочинительных союзов, отметим, что значения средств синтаксической связи в реальном речевом использовании часто оказываются «размытыми» (о размытости границ между традиционно выделяемыми подгруппами сочинительных союзов русского языка см., например, [12: 43–45]), диффузными, особенно в силу того обстоятельства, что большинство из них являются заимствованными из русского языка (например, i ‘и’ от рус. и; libo ‘или’ от рус. либо; ni… ni ‘ни… ни’ от рус. ни; no ‘но’ от рус. но; što ‘что’ от рус. что; tai, dai ‘да, и’ (кар. > ta, da + i) от рус. да + и и др.): «чистая соединительность» (конъюнкция в логике), «чистая разделительность» (дизъюнкция в логике) и «чистая противительность» (логическое противопоставление) являются только основными функциями сочинительных союзов, фиксируемыми в словаре в качестве системных значений, в узусе же на эту семантику нередко накладываются дополнительные семантические оттенки, а также возникает диффузия смыслов, в том числе с участием подчинительных значений уступи-тельности, результативности и пр.
ВЫВОДЫ
Подводя итоги, отметим, что перенесение на карельскую почву русских союзов никак не отменяет того основополагающего факта, что заимствование совершается только при условии наличия в структуре языка-реципиента определенных предпосылок: так, заимствование сочинительных союзов оказывается возможным в силу наличия в карельском языке и его наречиях сформировавшейся еще в глубокой древности системы паратаксиса как типологически значимой для синтаксического строя. Процесс этот нуждается в системной, комплексной сравнительно-исторической реконструкции. Также представляется необходимым создание опыта описания семантики и прагматики союзов карельского языка.
Список литературы Состав и семантика сочинительных союзов в диалектах собственно карельского наречия в аспекте языковых контактов
- Данилевская Т. А. Сочинительные союзы: проблема состава // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2006. № 2. C. 66-69.
- Зайков П. М. Глагол в карельском языке. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. 293 с.
- Зайков П. М. Грамматика карельского языка. Петрозаводск: Периодика, 1999. 120 с.
- Инькова - Манзотти О. Ю. Коннекторы противопоставления во французском и русском языках (сопоставительное исследование). М.: Изд-во МГУ, 2001. 429 с.
- Майтинская К. Е. Историко-сопоставительная морфология финно-угорских языков. М.: USSR, 2009. 262 c.
- Манаенко С. А. Категоризация служебных слов на основе дискурсивного употребления // Когнитивные исследования языка. 2019. № 37. С. 495-500.
- Мызников С. А. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Запада: этимологический и лингвогеографический анализ. СПб.: Наука, 2004. 492 с.
- Новак И., Пенттонен М., Руусканен А., Сиилин Л. Карельский язык в грамматиках. Сравнительное исследование фонетической и морфологической систем. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2019. 479 с.
- Патроева Н . В., Пашкова Т. В . К вопросу о коннекторах сложного предложения (на примере ливвиковского наречия карельского языка) // Вестник угроведения. 2020. Т. 10, № 3. С. 517-525.
- Патроева Н. В., Пашкова Т. В. Система частиц в диалектах ливвиковского наречия карельского языка: проблемы описания и интерпретации // Вестник угроведения. 2021. Т. 11, № 4. С. 680-688.
- Родионова А. П. Семантика карельской грамматики. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. 169 с.
- Санников В. З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве. М.: Языки славянских культур, 2008. 624 с.
- Федотова В . П. Очерк синтаксиса карельского языка. Петрозаводск: Карелия, 1990. 157 с.
- Zaikov P. Karjalan kielen kielioppie (muoto-oppie). Petrozavodsk: Periodika, 1993. 87 s.
- Zaikov P. Karjalan kielioppi. Petroskoi: Periodika, 2002. 207 s.