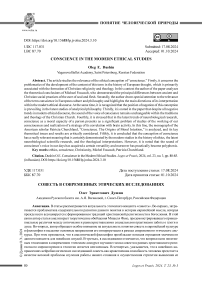Совесть в современных этических исследованиях
Автор: Душин О.Э.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Понятие человеческой природы: исторические трансформации и современные проблемы
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается актуальность этического концепта «совесть». Во-первых, затрагивается проблематика содержательного развития данного понятия в истории европейской мысли, которая прежде всего ассоциируется с формированием традиций христианской религиозности и богословия. В этой связи автор статьи анализирует теоретические обобщения Мишеля Фуко, продемонстрировавшего принципиальные различия между античными и раннехристианскими социальными практиками заботы о плоти и душе. Во-вторых, автор обращает особое внимание на актуальность понятия совесть в европейской культуре и философии и выделяет основные направления его интерпретации в рамках современного этического дискурса. При этом признается, что в аналитической философии преобладает позиция отрицания значимости данного концепта для новейших штудий. В-третьих, в исследовании отмечается, что вопреки всем негативным тенденциям в современном этическом дискурсе звучание голоса совести в рамках христианского религиозного мировоззрения и теологии остается неизменным. В-четвертых, указывается, что в новейших направлениях нейробиологических исследований совесть как нравственная способность человека предстает в качестве весомой проблемы изучения работы нашего сознания и осуществления стратегии выявления ее корреляции с деятельностью мозга. В данной перспективе анализируется монография американской ученой Патриции Черчленд «Совесть. Происхождение нравственной интуиции» и критически рассматриваются ее ключевые теоретические выкладки и установки. В-пятых, делается вывод о том, что концепт совести имеет вполне актуальное значение, что убедительно демонстрируют современные историко-этические исследования, новейшие научные изыскания и теологические штудии. Но при этом отмечается, что звучание голоса совести в наши дни приобрело некоторую многогранность и практически стало многоголосым.
Этика, совесть, христианство, мишель фуко, патриция черчленд
Короткий адрес: https://sciup.org/149147297
IDR: 149147297 | УДК: 117.031 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.3.10
Текст научной статьи Совесть в современных этических исследованиях
Л® obi
DOI:
Цитирование. Душин О. Э. Совесть в современных этических исследованиях // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 3. – С. 80–85. – DOI:
Введение: история совести
Экспликация концепта совести приобрела в истории этической мысли довольно длительную перспективу развития: от античных истоков до новейших нейробиологических изысканий. Причем данная диспозиция напрямую связана с пониманием и интерпретацией природы человека. Так, с точки зрения христианской теологии в основании человеческого существа заложена принципиальная раздвоенность между греховной свободой воли и упованием исключительно на действие благодати и спасительную миссию Божественного провидения. Эта метафизическая оппозиция стала одной из ключевых в доктрине Аврелия Августина. Однако в последующей традиции средневековой схоластики она заметно трансформировалась, когда в качестве фундамента совести был провозглашен принцип synderesis’а, являвший собой «естественный навык первых нравственных принципов» [Фома Аквинский 2004, 318]. В свою очередь, Мартин Лютер отверг подобную проекцию нравственности на падшую природу человека, воспринимая такой подход как форму по-лупелагианства.
В ранний период своей деятельности Лютер еще использовал в своих работах термин synderesis, однако затем он полностью отказался от него, так как данная концепция противоречила его пониманию неизбывной греховности природы человека. При этом он выделил совесть в качестве основополагающего измерения личности христианина, отождествив ее с сердцем как средоточием всей нравственно-сознательной жизни индивида. Но он рассматривал ее в сугубо реформационном ключе, в его понимании она стала отождествляться с неистребимым чувством моральной вины, с осмыслением состояния изначального осуждения. Тем не менее, совесть, по Лютеру, относилась и к вполне конкретным поступкам [Baylor 1977].
В конечном счете, для морализирующего христианского самосознания дискурс совести несомненно является важнейшей темой нравственно-этических экспликаций. Значение данной экзегезы вполне актуально и сегодня в контексте реализации практик и традиций современной церковной жизни. Но в нынешнем социальном пространстве она уже не играет той главенствующей роли и не задает основополагающие смыслы бытования культуры, как это было присуще средневековому миру. По сути, для современности христианская вариация звучания голоса совести – это лишь одна из версий ее презентации, тогда как с позиций новейших научных исследований ее актуальность определяется статусом влиятельного, но лишь исторического наследия.
В этой связи примечательно выглядят исследования Мишеля Фуко, посвященные экспликации соответствующих диспозиций европейской культуры, определивших длительную историю формирования и развития самосознания индивида, в рамках которой свое самобытное звучание приобретает и голос совести. Так, в четвертом томе фундаментального исследования «История сексуальности», получившем отдельное название «Признания плоти», ученый рассматривает опыт пастырской работы с верующими в рамках первых веков христианства и выявляет соответствующую герменевтику человеческих желаний, которые должны были преодолеваться через систему уникальных очистительных действий (таинства крещения, покаяния, процедуру духовного руководства, аскетические практики монашеской жизни). Причем, следуя христианским авторам, Фуко отмечает особое значение руководства совестью в данном процессе, когда, например, монаху следовало не только отслеживать свои помыслы, но и обращать пристальное внимание на их развитие в его сознании и выявлять все «тайны совести» (arcana conscientia), чтобы затем в исповеди представить своему духовнику подробный отчет о себе и осветить все глубины своего сердца, изгоняя тем самым темные силы. В ходе реализации этих действий следовало опираться на способность рассудительности, которая позволяла преодолеть все коварные хитросплетения и рассеять превратные иллюзии.
В данной перспективе, как отмечает М. Фуко, в христианской традиции сложились две стратегии «представления себя» (publicatio sui) – «экзомологеза» (exomologesis, confessio), которая практиковалась до IV в., и «экзагоре-за» (exagoresis, revelatio). По мнению французского ученого, они принципиально отличались от античных доверительных отношений учителя, который стремился передать свои обширные познания, и ученика, который старался перенять мудрость своего педагога, тогда как в рамках христианского монашеского опыта непрерывное испытание себя становилось формой руководства и перманентной переэкзаменовки собственной совести, что должно было привести к контролю самых мимолетных помыслов и к полному послушанию монаха своему духовному наставнику.
Подобные процедуры надзора применялись, согласно Фуко, и по отношению к простым верующим, их реализация осуществлялась через таинство исповеди, когда грешник был обязан пройти соответствующую практику «выяснения» (examinatio), чтобы выявить у него наличие искренних угрызений совести, только после этого ему предоставлялась возможность раскаяния. В итоге, данные действия позволяли искоренить все болезни души, которые ассоциировались с различными грехами [Фуко 2023].
В своем исследовании Мишель Фуко охватывает обширный материал духовного наследия известных христианских греческих и латинских мыслителей и Отцов Церкви, для него – это еще единый мир античной средиземноморской ойкумены и будущей средневековой Европы. Тем не менее нельзя сказать, что в последующие столетия понятие совести вообще утратило свое былое величие. Напротив, битва pro et contra совести продолжилась, как способность выбора стратегии поступка и оценки результатов действия она сохранила свою диспозицию в этическом дискурсе. В этом плане апелляции к нравственно-назидательному голосу совести встречаются и в мировой художественной литературе, и в отечественной классической прозе [Домусчи 2010]; в научной теории психоанализа совесть отождествляется с Super-Ego [Langston 2001, 87–98]; а в советском кинематографе был даже снят небольшой детективный сериал с названием «Совесть» (1974). Тем самым совесть предстает в качестве инстанции культуры, которая приобщает индивида к правилам и условиям жизни в обществе, за ней признается особая роль в процессе социализации человека.
Актуальность совести
В рамках современных этических штудий можно выделить несколько актуальных значений совести как нравственной способности человека. Правда, в конечном счете, они в той или иной мере отражают сложившиеся исторические вариации толкования данного концепта. Во-первых, совесть воспринимается в качестве своеобразного девайса, устройства, с помощью которого осуществляется оценка наших действий и признание правил поведения. В этой перспективе она оказывается связана с нравственными рассуждениями, что видится в качестве прямой отсылки к философскому дискурсу Аристотеля [Westberg 1994, 3–14]. Во-вторых, совесть рассматривается как аффективная способность, определяющая наши эмоциональные реакции на совершенные нравственные акты или проступки (чувства морального удовлетворения или вины, раскаяния, угрызения совести), на этические предписания, которые контролируют и определяют нашу практическую деятельность. Подобное понимание совести встречается в средневековой схоластике, в частности, Фома Аквинский акцентирует внимание на такого рода проявлениях совести [Фома Аквинский 2004, 319]. При этом сами моральные правила связаны с рассудительностью, которая имеет самостоятельное значение. В-третьих, совесть предстает как диспозиция, требованиям которой необходимо следовать, чтобы достигать правильных решений и осуществлять подходящие действия.
Предписание всегда следовать велениям совести, даже при условии ее ошибок, отстаивал Уильям Оккам, который аргументировал это тем, что в таком случае, хотя бы правило следования совести, будет соблюдено [Holopainen 1991]. Четвертая позиция характеризуется отрицанием совести в качестве значимого этического концепта для современных исследований. Данной версии придерживаются прежде всего представители аналитической философии, для которых совесть, как и многие другие понятия традиционного этического дискурса, представляется слишком абстрактной и недостаточно обоснованной. Более того, по их мнению, деятельность совести может быть сведена либо к нравственной рассудительности, либо к эмоциональным оценкам, поэтому она просто не нужна.
Однако в горизонте современного этического дискурса проблематика совести все же имеет свое вполне актуальное значение, которое связано, в частности, с богословскими штудиями. В данном направлении продолжаются исторические исследования, осуществляется изучение насущных нравственных вопросов и дилемм, обусловленных новейшими тенденциями развития динамично изменяющегося и тотально глобализирующегося мира. В такого рода стратегиях и подходах проявляются определенные религиозные различия и конфессиональные дифференциации, которые теологии стремятся обосновать и утвердить, демонстрируя преимущества своих позиций. При этом подобный традиционно-религиозный дискурс часто приходит в противоречие с современными этическими нормами и правилами поведения.
Тем не менее среди новейших проектов интерпретации совести имеются и достаточно наукообразные версии ее толкования. Так, в рамках направления американских Neuro-Studies в 2019 году появилась монография профессора философии Патриции Черчленд с символичным названием «Совесть. Происхождение нравственной интуиции», которая представила данный концепт в перспективе нейробиологическо-го понимания природы человеческого сознания. Следует отметить, что ее подход отражает довольно длительную историю научно-позитивного толкования общественной морали.
Ее интерпретация совести сводится к физиологическому процессу, происходящему в нашем мозге. В частности, она утверждает, что «в социальном контексте мозг усваивает социальные ценности. Мы встречаем неодобрение, когда жульничаем, и одобрение, когда терпеливо ждем своей очереди. Одобрение приносит мозгу крупную награду (прилив дофамина). Неодобрение вызывает прилив серотонина. В первом приближении это и есть механизм формирования нашей совести» [Черчленд 2021, 108–109]. Не отрицая вполне вероятного характера данных процессов, описываемых с точки зрения научно-объективных показателей, все же хотелось бы заметить, что предложенные примеры действий выглядят предельно утрированными, поэтому их легко объяснить с помощью такой простой формулы, когда результат действия вызывает соответствующую химическую реакция, а за ней следует физиологическое удовольствие или неудовольствие, что в итоге закрепляется в качестве приемлемых или неприемлемых актов поведения, хотя стоит признать, что такого рода понимание вполне соответствует традиции. Другое дело, что наши нравственные поступки часто не только не способствуют прямому удовольствию, а, напротив, вызывают некоторые неудобства или даже проблемы, причем самого серьезного характера.
Умение сдерживать себя, которое обычно ассоциируется с внутренним голосом совести, американская исследовательница также объясняет в перспективе нейрофизиологии. Так, она пишет, что «грубо говоря, чем больше нейронов в лобных областях, тем выше способность контролировать свои порывы» [Черчленд 2021, 112]. Причем автор подчеркивает, что даже простым грызунам присуще небольшая по объему префронтальная кора, которая позволяет им проявлять впечатляющие примеры самообладания. В этом проявляется ее принципиальная установка, она постоянно стремится продемонстрировать действия человека похожими примерами из мира животных, по крайней мере, в первой половине монографии. В этом плане для нее совесть человека является продолжением и развитием способностей животных к социальному взаимодействию (от простых грызунов до приматов).
В тоже время П. Черчленд признает, что наше размышление как когнитивный процесс представляет собой достаточно сложную совокупность таких составляющих, как «припоминание схожих случаев, визуальное представление, владение относящейся к делу информацией, знание собственных предпочтений и особенностей характера» [Черчленд 2021, 113]. Кроме того, она подчеркивает значение игры для укрепления социальных связей и формирования различных моделей поведения индивида. К тому же она отмечает особую способность человека к подражанию. «Люди – безусловно талантливые подражатели», – пишет американская ученая [Черчленд 2021, 128]. Как известно, данную особенность людей подчеркивал еще Аристотель.
В конечном счете, принципиально важным представляется то, что в своих интерпретациях П. Черчленд не сводит сложную систему формирования и развития совести человека исключительно к процессам нейрофизиологии. В этой связи она указывает на особую роль общественных практик: «Социальные навыки и нормативные привычки, которые мы постепенно усваиваем, – это основная часть сюжета о том, кто мы такие и как функционирует наша совесть» [Черчленд 2021, 160]. Однако в данном контексте возникает другая сложная проблема, которую ставит перед собой американская исследовательница: почему при равных социальных условиях проявляются примеры такой крайней формы девиации как психопатия, характеризующаяся в качестве аномалии или полного отсутствия совести? Причем ученая честно признает, что, хотя соответствующие исследования проводятся уже давно, но выявить конкретные физиологические причины такого рода психопатологии пока не удается.
Специфика психопатов, как указывает Черчленд, задается двумя ключевыми параметрами: антисоциальным поведением и отсутствием адекватных эмоциональных переживаний раскаяния и вины. Характерно, что они могут совершать преступления, действуя абсолютно рационально, но без всякой выгоды и пользы для себя. При этом их не смущает содеянное, оно не вызывает у них сожаления или чувства стыда. Такого рода отклонение, как отмечает исследовательница, свойственно примерно 25 % заключенных, находящихся как в женских, так и в мужских тюрьмах США.
Противоположная по отношению к психопатии форма отклонения – это моральный перфекционизм, когда человек стремится к достижению нравственного идеала и не признает никаких компромиссов. Данная позиция, как отмечает П. Черчленд, свойственна людям религиозно одержимым, они крайне озабочены исполнением всех церковных обрядов и требований, их особенно волнуют вопросы греха и сексуальной жизни, а их совесть превращается в «неусыпного надсмотрщика», который ставит невыполнимые задачи и жестко отчитывает за то, что они не были реализованы.
Американская исследовательница ставит под сомнение возможность универсальных нравственных правил, которые могли бы подходить для всех случаев жизни, и принципиально отвергает наличие тайной структуры, которая бы обеспечивала создание системы общественных институтов, произведений искусства и нравственных норм. В конечном счете, в духе традиций позитивизма она настаивает на том, что «совесть – это структура в мозге, коренящаяся в нейронных связях, а не теологическая сущность, заботливо вложенная в нас неким божеством» [Черчленд 2021, 186]. При этом она настаивает на том, что ее подход направлен против философии Канта, утилитаризма и иных форм идеологии, которые противоречат объективным научным исследованиям и исходят из различного рода абстрактных принципов. Правда, остается открытым вопрос о ее собственной позиции, которая предполагает некоторые идеологические установки, хотя бы пресловутое отрицание всякой идеологии.
Но достаточно позитивным представляется признание с ее стороны наличия у человека стремления к обретению некоторого равновесия совести. Подобно тому, как мы стараемся удержаться, когда начинаем ездить на велосипеде, так и в сфере общественных отношений, совершая ошибки, мы все же нацелены на то, чтобы достичь определенного баланса, не имея при этом заданных алгоритмов действий и поступая исключительно на свой страх и риск.
Заключение
Завершая статью, необходимо признать, что дискурс совести сохраняет свою теоретическую актуальность. Данная проблемати- ка находит свой отзвук и в зарубежных, и в отечественных исследованиях, причем в самой разной научно-методологической направленности (от богословских штудий до новейших нейробиологических изысканий).
В российском интернет-пространстве встречается вопрос о том, нужна ли современному человеку совесть, и приводятся данные социологических опросов. Такая постановка проблемы, с одной стороны, указывает на наличие живого интереса к этому этическому концепту. С другой стороны, она демонстрирует, что в современной культуре понятие совести уже не обладает несокрушимым статусом нравственной истины. Ее значение подвижно, она все больше зависит от индивидуального выбора человека. Но современные научные исследования, в конечном счете, демонстрируют, что человеку присуща некоторая способность морального чувства, которая позволяет ему сохранять свою идентичность вне зависимости от внешних условий и жизненных обстоятельств.
Список литературы Совесть в современных этических исследованиях
- Домусчи 2010 - Домусчи С.А. Русская литература и философия о нравственной правде человека // Культурология: пересечение научных сфер: сб. ст. Вып. 5. Воронеж: Тип.-изд-во им. Е.А. Болховитинова, 2010. С. 153-158.
- Фома Аквинский 2004 - Фома Аквинский. Учение о душе. СПб.: Азбука-классика, 2004.
- Фуко 2023 - Фуко Мишель. История сексуальности 4. Признания плоти. М.: Ад Маргинем Пресс: Музей современного искусства "Гараж", 2023.
- Черчленд 2021 - Черчленд П. Совесть. Происхождение нравственной интуиции. М.: Альпина нон-фикшн, 2021.
- Baylor 1977 - Baylor M. Action and Person. Conscience in Late Scholasticism and the Young Luther. Leiden: E.J. Brill, 1977.
- Holopainen 1991 - Holopainen T. William Ockham's Theory of the Foundations of Ethics. Helsinki: Luther-Agricola-Society, 1991.
- Langston 2001 - Langston D. Conscience and Other Virtues: From Bonaventure to Macintyre. State College, PA: Pennsylvania State University Press. 2001.
- Westberg 1994 - Westberg D. Right Practical Reason. Aristotle, Action, and Prudence in Aquinas. Oxford: Clarendon Press, 1994.