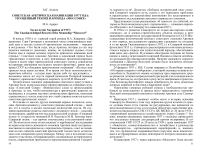Советская арктическая навигация 1937 года: упущенный рекорд парохода "Моссовет"
Автор: Агапов Михаил Геннадьевич
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 70, 2021 года.
Бесплатный доступ
А основании ранее неизвестных архивных документов и мемуарной литературы в статье рассматриваются трудности, успехи и неудачи освоения Северного морского пути Советским государством во время первых пятилеток. Применив метод case-study, автор сконцентрировал внимание на участии парохода «Моссовет» в навигации 1937 г. Перед пароходом «Моссовет» в навигацию 1937 г. была поставлена задача особой государственной важности: впервые в истории арктического мореходства совершить двойное сквозное коммерческое плавание по всей трассе Севморпути - пройти от Мурманска до Петропавловска-Камчатского и вернуться обратно, завершив рейс в одном из европейских портов. Трудности, с которыми экипаж «Моссовета» столкнулся при выполнении поставленной задачи, представляют собой в концентрированном виде весь спектр основных проблем освоения Северного морского пути в 1930-е гг. В статье системно анализируется сложный комплекс природных, технических, административных и личностных факторов, не позволивших пароходу «Моссовет» успешно завершить двойной сквозной проход по всей трассе Северного морского пути. Автор приходит к выводу, что советское освоение Северного морского пути в 1930-е гг. имело все основные признаки, характерные для крупных народно-хозяйственных проектов периода индустриализации: необоснованное завышение планов и каскад повышенных обязательств при ограниченности ресурсов, замещение экономических стимулов и рациональных методов управления политическими кампаниями и угрозой репрессий за «вредительство». Несмотря на мужество и самоотверженный труд судовых экипажей, стремление партийно-государственного руководства к показательным рекордам обернулось самым серьезным в довоенный период срывом работ в Арктике.
Арктика, русский север, северный морской путь, морской транспорт, ледокол, пароход "моссовет", капитан судна, индустриализация, пятилетка, административно-командная система, о.ю. шмидт
Короткий адрес: https://sciup.org/149139031
IDR: 149139031 | DOI: 10.54770/20729286_2021_4_50
Текст научной статьи Советская арктическая навигация 1937 года: упущенный рекорд парохода "Моссовет"
В начале 1930-х гг. главный герой романа В .А. Каверина «Два капитана» Саня Григорьев с волнением читал появляющиеся каждый день в газетах статьи об арктических экспедициях - морских и воздушных. «Это были годы, когда Арктика, которая до сих пор казалась какими-то далекими, никому не нужными льдами, стала близка нам и первые великие перелеты привлекли внимание всей страны»1. Советское освоение Арктики в довоенный период было грандиозным и проектом, и шоу, призванным продемонстрировать стране и всему миру преимущества советского строя и социализма на примере завоевания последнего земного фронтира2, равно как и права СССР на обладание арктическими островами3. «На весь мир гремели тогда наши летчики. В то время это было политически невероятное событие - сегодня даже трудно себе это представить», -вспоминал много лет спустя первый начальник Полярной авиации Главного управления Северного морского пути М.И. Шевелев4.
Политическое значение наращивания советского присутствия в Арктике было недвусмысленно сформулировано на страницах журнала «Советский Север»: «Внимательно следя за происходящим в Арктике, за тем, чтобы конъюнктура в арктических широтах не выливалась в создание местных антисоветских фронтов, советская страна вместе с тем не допустит ни с чьей стороны посягательств на советские арктические земли»5.
В отличие от многих других кампаний первых пятилеток, освоение Арктики вызывало у советских граждан живой отклик - такой же, что и полеты в космос несколько десятилетий спустя. Не случайно важнейшие сюжеты советского «полярного эпоса» - спасение челюскинцев, дрейф научно-исследовательской станции «Северный полюс-1» и перелеты экипажей В.П. Чкалова и М.М. Громова через Северный полюс - так прочно отпечатались в коллективной памяти6. Во многом поэтому отечественные7 и зарубежные8 исследования истории советского довоенного освоения Арктики пишутся преимущественно по материалам ее «героических страниц», а вот не попавшие на них события советской арктической эпопеи часто остаются мало или совершенно неизученными. Между тем в последние годы заметно участилась публикация работ, посвященных историческому опыту, современным проблемам и перспективам развития Северно- 50
го морского пути9. Думается, обобщать исторический опыт освоения Северного морского пути, судить о его нынешних проблемах и предполагать его перспективы невозможно без всестороннего и объективного исследования советского периода его освоения.
Предлагаемая статья рассказывает об одном из тех событий, которые не были возведены в ранг «героических», - плаванию парохода «Моссовет» по Севморпути в навигацию1937 г.
В 1930-е гг. развитие Севморпути не только как народно-хозяйственного, но и военно-стратегического объекта входило в круг важнейших приоритетов государственной безопасности СССР. Восстанавливая политический контекст советского освоения Арктики в этот период, исследователи справедливо указывают на создание в то же время Тихоокеанского флота (1932 г.) и Северной военной флотилии (1933 г). Севморпуть рассматривался советским руководством в первую очередь как стратегический коридор, обеспечивающий связь двух флотов. В условиях обострения ситуации на Тихом океане в связи с агрессивной политикой Японии в памяти неизбежно всплывала Цусимская катастрофа. Наличие надежного морского сообщения с Дальним Востоком должно было исключить возможность ее повторения10.
20 февраля 1931 г. И.В. Сталин направил в Политбюро записку «Об охране северного побережья», в которой указывал на явную неспособность Ледовитого океана оставаться при современном уровне развития техники непреодолимой преградой для потенциального врага. В частности, он предлагал сразу же по завершении строительства Беломоро-Балтийского канала перебросить по нему несколько военных кораблей из Балтики в Баренцево море11.
Укрепление северных рубежей страны с необходимостью требовало их комплексного и, прежде всего транспортного, освоения. Несущей конструкцией советского освоения Арктики стал Севморпуть.
Навигация 1937 г. занимает особое место в истории освоения Севморпути. Именно в этом году перевозки грузов по всей его трассе должны были стать такими же регулярными, как перевозки по железнодорожным путям, и тем самым обеспечить выполнение принятой постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 20 июля 1934 г. «широчайшей программы по хозяйственному охвату Севера»12. Однако, вопреки ожиданиям, навигация 1937 г. оказалась провальной, что послужило поводом для репрессий против полярников. В постановлении СНК СССР от 29 августа 1938 г. срыв навигации 1937 г. объяснялся «самоуспокоенностью и зазнайством в руководстве Главсевморпути», «организационной неразберихой» и, наконец, тем, что «руководство операциями было поручено мало компетентным и не проверенным людям, некоторые из которых оказались вредителями»13.
В навигацию 1937 г. перед пароходом «Моссовет» была постав- лена задача особой государственной важности: впервые в истории арктического мореходства совершить двойное сквозное коммерческое плавание по всей трассе Севморпути, то есть пройти от Мурманска до Петропавловска-Камчатского и вернуться обратно, завершив рейс в одном из европейских портов. Все остальные суда под флагом Главного управления Северного морского пути выходили в 1937 г. в одинарные сквозные плавания (Мурманск - Петропавловск-Камчатский или Мурманск - Владивосток) или действовали в ограниченных рабочих зонах. Трудности, с которыми пароход «Моссовет» и его команда столкнулись при выполнении поставленной задачи, представляют собой в концентрированном виде весь спектр основных проблем освоения Севморпути в то время. Примененный нами метод case-study позволяет до известной степени взглянуть на последние изнутри, оценить соотношение природных, технических, административных и личностных факторов в организации и проведении арктических навигаций.
«Проложить окончательно Северный морской путь от Белого моря до Берингова пролива»
В 1931 г, подводя итоги Карских экспедиций предыдущего десятилетия, известный полярный исследователь и руководитель Всесоюзного арктического института В.Ю. Визе констатировал: «Западная часть Северо-Восточного прохода - путь из Европы к устьям западносибирских рек - уже завоевана... советским ледоколом, советской авиацией и советской наукой»14. На следующий год впервые в истории северного ледовитого плавания ледокольный пароход «Александр Сибиряков» прошел за одну навигацию весь Севморпуть от Архангельска до Берингова пролива. Успех «Александра Сибирякова» подвел черту под долгой, начавшейся еще в дореволюционный период, дискуссией между сторонниками строительства трансполярной железнодорожной магистрали и их противниками, выступавшими за развитие Севморпути15.
17 декабря 1932 г. постановлением СНК СССР № 1873 было создано Главное управление Северного морского пути при СНК СССР (ГУСМП), которому поручалось «проложить окончательно Северный морской путь от Белого моря до Берингова пролива, оборудовать этот путь, держать его в исправном состоянии и обеспечить безопасность плавания по этому пути»16. Созданное по модели Ост-Индской компании, ГУСМП представляло собой суперорганизацию для освоения обширных северных пространств страны17. Решение этой задачи обеспечивалось посредством развития Севморпути, который, по определению первого начальника ГУСМП О.Ю. Шмидта, был «тем именно звеном, ухватившись за которое можно освоить Север полностью... начиная с морского пути, продвинуться по речным путям, поднять естественные производительные силы, обеспе- чить хозяйственно-культурный рост населения»18.
В условиях обострения международной обстановки на Дальнем Востоке и возникшей в связи с этим угрозе Транссибу, Севморпуть рассматривался Кремлем прежде всего в военно-стратегической перспективе, а именно как альтернативный способ переброски вооруженных сил на дальневосточные рубежи и - в более широком смысле - как дополнительное инфраструктурное средство укрепления единства страны в широтном направлении19. Среди всех циркумполярных государств только СССР мог осуществить массовую мобилизацию с целью освоения Арктики20. ГУСМП получило огромные властные полномочия, человеческие ресурсы и материальные средства на развитие арктической трассы. В 1933 г. его бюджет составил 25 млн руб., в 1934 г. вырос до 34 млн руб., в 1935 г. -до 100 млн руб., в 1936 г. - до 170 млн руб.21 ГУСМП превратилось в «главный символ скорости и размаха советской индустриализации», «гигантские муравейники строек первой пятилетки уступили место Северному морскому пути»22.
Важнейшими показателями эффективности трассы Севморпути считались регулярные сквозные (от Мурманска до Владивостока) и двойные сквозные (от Мурманска до Владивостока и обратно) проходы судов в течение одной навигации. В 1933 г. заместитель председателя СНК СССР и глава Госплана СССР В.В. Куйбашев писал в Политбюро: «Поход “Сибирякова” открыл новые перспективы в деле освоения и использования Северного морского пути. В настоящем 1933 году необходимо повторить этот поход на одном из ледокольных судов. Наиболее подходящим является строящийся в настоящее время в Дании ледокольный пароход “Лена” (он же “Челюскин”)». Инициированное Куйбашевым предложение внес в Политбюро Шмидт, взяв таким образом на себя всю ответственность за «сплошное плавание по Ледовитому океану»23.
Несмотря на провал в 1933-1934 гг. экспедиции парохода «Челюскин», которая должна была доказать возможность регулярного сквозного плавания по Севморпути, 1 апреля 1935 г. Совет труда и обороны СССР принял решение о переходе от экспериментальных рейсов к плановым перевозкам грузов по всей трассе Севморпути. В 1935 г. в условиях исключительно благоприятной ледовой обстановки грузовые суда «Анадырь» и «Сталинград» совершили сквозной рейс из Владивостока в Мурманск, а лесовозы «Ванцетти» и «Искра» - сквозной рейс из Мурманска во Владивосток24. В 1936 г. уже 12 судов прошли сквозным путем с запада на восток (в том числе обратным рейсом «Анадырь» и «Сталинград»25) и два судна - с востока на запад26.
Однако вопреки оптимистическим заявлениям ГУСМП27 этого было недостаточно для превращения Севморпути в «практически действующую транспортную артерию», по которой осуществлялись бы «больше транспортные операции с флотом в десятки единиц»28.
Скромные достижения ГУСМП в организации регулярного арктического судоходства отчасти компенсировались успехами в сфере арктических рекордов, ставших ключевыми пунктами советской пропаганды «наступления социализма по всему фронту». 274-днев-ный дрейф научно-исследовательской станции «Северный полюс-1» и перелеты экипажей Чкалова и Громова из СССР в США через Северный полюс демонстрировали первенство Советского Союза в области высокоширотных экспедиций и сверхдальних перелетов.
На этом фоне ситуация на Севморпути выглядела как полный провал. В навигацию 1937 г. из 64 судов на трассе Севморпути вмерзли и зазимовали 25 транспортных судов, два ледокола («Красин» и «Ленин») и один ледорез («Литке»), Один пароход («Рабочий») был раздавлен льдами и утонул. По свидетельству И.Д. Папанина, руководителя станции «Северный полюс-1» и начальника ГУСМП в 1939-1946 гг., арктическая навигация 1937 г. была признана в Кремле неудачной29. Шевелев высказался в своих мемуарах более прямолинейно: «Это был серьезный срыв всех работ в Арктике»30.
Если навигацию 1936 г. в глазах советского правительства «спасла» успешная операция по проводке по Севморпути эсминцев «Войков» и «Сталин» из Кронштадта в бухту Проведения (Анадырь), ставших первыми кораблями данного класса Тихоокеанского флота, то потери 1937 г. в какой-то мере могли бы быть оправданы первым двойным сквозным плаванием по Севморпути из Ленинграда в Пе-тропавловск-Камчаткий и обратно за одну навигацию, осуществить которое было поручено пароходу «Моссовет». Однако «Моссовет» оказался среди 25 транспортных судов, вынужденных зазимовать на трассе Севморпути.
Общий ход плавания парохода «Моссовет» по трассе Северного морского пути в 1937 г.
Впервые идея двойного сквозного плавания по Севморпути за одну навигацию была высказана Шмидтом осенью 1936 г.31 Позже, после всестороннего обсуждения этого вопроса в Морском управлении ГУСМП, в план работы на 1937 г. «в виде опыта» был внесен коммерческий рейс грузового судна из Ленинграда в Петропавловск-Камчатский и обратно в одну навигацию32. Выбор судна для «опытного рейса» и его проводка были поручены опытному капитану-полярнику Александру Павловичу Бочек (1892 - 1980). Выпускник Александровского мореходного училища (Владивосток), Бочек участвовал в Тихоокеанской гидрографической экспедиции (1908 г), руководил Лено-Колымской экспедицией по перегону речных судов (1931 г.) и Особой Северо-Восточной полярной экспедицией по доставке грузов для Дальстроя из Владивостока на Колыму (1932 - 1933 гг). В 1936 г, как капитан парохода «Анадырь», Бочек обеспечивал проводку эскадренных миноносцев по Севморпути на 54
Дальний Восток.
Конструкция «Моссовета» позволяла ему совершать плавания в ледовых условиях: он «имел ледовые подкрепления и обладал, казалось, всеми данными для прохода [По Севморпути. - М.АД, хотя и у него было слабое место - он предназначался для перевозки леса, а это значит, что судно не имело твиндеков [Англ, tween-deck - междупалубное пространство внутри корпуса грузового судна. - М.АД и поперечных переборок между носовыми и кормовыми трюмами, поэтому в смысле прочности уступал пароходу “Челюскин”»33.
С другой стороны, «Моссовет» обладал такими преимуществами, как нос ледокольного типа, позволявший пароходу форсировать гладкий лед толщиной 30-40 см., и высокая для транспортного корабля быстроходность (12 узлов), что ставило его в ряд немногих в советском флоте «активных при плавании во льдах судов»34. Наконец, «Моссовет» был новым современным судном, в апреле 1937 г. он прошел гарантийный ремонт в Копенгагене и был оборудован эхолотом - прибором звукового обнаружения подводных объектов, - который имелся далеко не на всех советских ледоколах. «Моссовет», несомненно, был одним из лучших советских пароходов ледокольного типа своего времени35.
Экипаж для «опытного рейса» был составлен из числа высокопрофессиональных полярников. Старшим помощником капитана был назначен полярный штурман дальнего плавания, участник проводки эскадренных миноносцев по Севморпути на Дальний Восток, «один из блестящих судоводителей морского флота» А.М. Матиясе-вич, вторым помощником - штурман дальнего плавания Л.М. Шатуновский, зарекомендовавший себя как «квалифицированный эксплуатационник»36. Пост корабельного врача получил Н.А. Лу-кацкий. Каждого члена экипажа назначали на пароход только с его согласия37. В своих отчетах и воспоминаниях Бочек и Матиясевич исключительно высоко оценивали профессиональные и личностные качества всех членов экипажа «Моссовета», что было нетипично для капитанов арктических рейсов, постоянно высказывавших нарекания относительно профессиональной подготовки и дисциплины матросского состава38.
Согласно плану рейса, «Моссовет» должен был привезти из Ленинграда в Петропавловск-Камчатский 2 500 тонн груза, принять местную рыбопродукцию и, вернувшись Севморпутем обратно, доставить ее в Лондон39. В Ленинградском порту «Моссовет» взял груз на сто с лишним тонн больше запланированного40.
Выйдя из Ленинградского порта 10 июля 1937 г, девять дней спустя пароход «Моссовет» прибыл в Мурманск, где на его борт прибыли новые участники «опытного рейса»: уполномоченный ГУСМП по двойному сквозному рейсу парохода «Моссовет» Г.Э. Эрман, научные работники Гидрологического отдела Арктического научно-исследовательского института ГУСМП Я.Я. Гаккель и С.К. Де-менченок, аспирант Академии наук СССР В.А. Перевалов, кинооператор «Союзкинохроники» Д.Г Рымарев и спецкор газеты «Известия», хроникер и очеркист Карских экспедиций, М.Э. Зингер. В 22 часа 19 июля «Моссовет» «снялся из Мурманска, взяв курс на Маточкин Шар». Этими словами начинается «Рейсовое донесение по двойному сквозному проходу парохода “Моссовет” арктической навигации 1937 г.»41.
Расчетное время рейса составляло 120 дней42. Однако поразительно быстрое прохождение «Моссоветом» всего пути с запада на восток вселяло надежду, что его плавание завершится с опережением утвержденного графика. «Моссовет» благополучно достиг пункта Маточкин Шар 21 июля, но вынужден был задержаться на одни сутки с выходом в Карское море из-за бушующего там девятибалльного шторма. На пути к острову Диксон судно встретило первые льды, пройти через которые ему помог работавший на маршруте Маточкин Шар - остров Диксон ледокол «Ермак» под командованием легендарного полярного капитана В.И. Воронина (1890-1952), впервые в истории прошедшего Севморпутем за одну навигацию на ледокольном пароходе «Сибиряков» (1932 г.)43.
25 июля, следуя за ледоколом, пароход «Моссовет» прибыл на остров Диксон. Благоприятные данные ледовой разведки, выполненные пилотом В.М. Махоткиным от острова Диксон до острова Скотт-Гансона, побудили капитана Бочек незамедлительно продолжить рейс. 27 июля, закончив бункеровку углем и водой, пароход «Моссовет» вместе с присоединившемся к нему пароходом «Правда» покинул остров Диксон. Ледовую проводку обоим пароходам через пролив Вилькицкого - один из наиболее труднодоступных участков трассы44 - обеспечил ледокол «Ермак». 1 августа в небывало ранний срок все три судна прошли меридиан мыса Челюскина и на следующий день вышли из льдов. «Ермак» вернулся обратно к острову Диксон, а «Моссовет» и «Правда» продолжили самостоятельное плавание на восток, но уже 3 августа, встретив непроходи- 56
мые для них льды, пароходы легли в дрейф в ожидании прибытия ледореза «Литке», вышедшего им на помощь из западной части Восточно-Сибирского моря. 9 августа «Литке» вывел суда на чистую воду, откуда «Моссовет», желая наверстать потраченное в ожидании «Литке» время и имея перед «Правдой» преимущества в скорости хода, самостоятельно направился к проливу Дмитрия Лаптева. Пройдя последний в ночь с 10 на 11 августа, далее весь путь до Берингова пролива пароход «Моссовет» проделал по чистой воде. 15 августа - в небывало ранний для судна, шедшего с запада, срок -пароход «Моссовет» прошел Берингов пролив.
На рассвете 20 августа «Моссовет» прибыл в Петропавловск-Камчатский и в тот же день приступил к разгрузке45. На трассе Сев-морпути разгрузочно-погрузочные работы часто затягивались, удлиняя тем самым продолжительность рейсов или даже срывая их46. Все участники плавания «Моссовета» в 1937 г, оставившие свои воспоминания, с нескрываемым восторгом описывали работу Петропавловского порта. В «Рейсовом донесении “Моссовета”» отмечалось:
«Надо отдать должное, что петропавловцы к нашему приходу готовились очень хорошо. Решительно все организации города оказали нам посильное содействие для ускорения разгрузочных и погрузочных операций в порту Петропавловск. Были показаны действительно стахановские темпы работы грузчиков и поэтому удалось в рекордно короткий срок - в 4 суток - закончить выгрузку 2 680 тонн генерального груза, погрузить: 1 200 тонн груза обратно, из которого 380 тонн экспортного груза (остальное для внутреннего рынка), взять бункер 450 тонн угля и 400 тонн воды»47.
Начальник Петропавловского порта А.И. Вереникин, в свою очередь, с благодарностью отмечал «совершенно безукоризненное состояние» всех доставленных «Моссоветом» грузов48. Пароход «Моссовет» принял на борт консервированную красную рыбу, тук (рыбную муку для удобрения), сельдь и кету в бочках, треску сухого засола в ящиках49. Это был первый опыт вывоза рыбных консервов по трассе Севморпути на нерефрижераторном судне50.
25 августа «Моссовет» отправился в обратный путь с опережением утвержденного графика рейса на 6 суток51. В Беринговом море пароход вошел в частые полосы тумана. «Оглашая туманный простор судовым свистком, шли по пятьдесят миль за вахту... До моря Лаптевых не сбавляли хода», - вспоминал старший помощник Ма-тиясевич. Море Лаптевых «Моссовет» пересек самостоятельно по разводьям между льдами. Более того, 5 сентября он помог случайно встреченному им пароходу «Крестьянин», следовавшему из устья Колымы на запад, выбраться из ледового плена и принял его под свою опеку. На следующий день к ведомому «Моссоветом» «Крестьянину» присоединились пароход сквозного рейса (с востока на запад) «Урицкий» и следовавший из Владивостока в Игарку буксир- ный пароход «Молоков». Рядом оказался затертый льдами пароход «Правда», освободить который собственными силами «Моссовет» не смог.
7 сентября, опередив график на 24 (!) суток, «Моссовет» вместе с возглавляемым им караваном подошел к острову Малый Таймыр, то есть к входу в пролив Вилькицкого (вскоре сюда же прибыл самостоятельно выбравшийся изо льдов пароход «Правда»), Оценив обстановку в проливе Вилькицкого как благоприятную (эта оценка была подтверждена данными воздушной разведки, выполненной пилотом Махоткиным), капитан Бочек и уполномоченный ГУСМП Эрман запросили по радио начальника Западного сектора Севмор-пути П.П. Ковеля, учитывая особое задание парохода «Моссовет», разрешить ему следовать далее самостоятельно, без каравана, замедлявшего продвижение парохода. Высокая, по сравнению с другими транспортными кораблями, скороходность «Моссовета» позволяла ему успешно проходить быстро образующиеся и также быстро закрывающиеся разводья. Проводку остальных кораблей, по мнению Бочек и Эрмана, должны были обеспечить ледоколы52.
Получив от Ковеля отказ, Бочек и Эрман обратились с той же просьбой непосредственно к начальнику Управления морского транспорта ГУСМП Э.Ф. Крастину. Эрман был готов принять на себя ответственность за продолжение рейса «Моссовета», но капитан Бочек заявил ему, что «партизанить нельзя»53. Переговоры затянулись до 16 сентября. За это время ледовая обстановка в проливе Вилькицкого значительно ухудшилась. Это был переломный момент в плавании «Моссовета».
17 сентября к месту стоянки судов с востока подошел ледорез «Литке», но его мощности не хватило для проводки каравана через пролив Вилькицкого. Хотя с этого момента группа кораблей стала называться «караван “Литке”», ее по-прежнему возглавлял «Моссовет», так как только на нем имелся эхолот, позволяющий промерять неизвестные глубины вблизи берегов54.
Из-за стремительного ухудшения погоды все суда попали в ледяное сжатие. В «Рейсовом донесении парохода “Моссовет”», отправленном, как положено, в Ленинградский политотдел ГУСМП, в ГУСМП (О.Ю. Шмидту и его заместителю Ф.Э. Крастину) и в Политуправление ГУСМП, сообщалось:
«Это было 25 сентября. Это число было для нас роковым, ибо с этого момента все суда вмерзли в лед и двигаться самостоятельно не могли... На караване было созвано совещание коммунистов с участием капитанов и послана аварийная телеграмма в Москву тт. Шмидту и Бергавинову [С.А. Бергавинов - начальник Политического управления ГУСМП. - М.АД, на «Ермак» Ковелю и наркомводу Зашибаеву [А.С. Зашибаев - заместитель наркома водного транспорта СССР. - М.АД с объяснением положения, в котором находился караван... Мы сообщали, что через 2-3 дня лесовозы вынуждены 58
будут гасить котлы, готовить суда к зимовке, перейти на камельки, на которых можно продержаться октябрь месяц, что место стоянки каравана ненадежно, что при сильных норд-вестовых ветрах караван может быть оторван и оказаться в ледовом рейсе»55.
Ледокол «Ермак», вышедший на помощь к «каравану «Литке»» с острова Диксон 21 сентября, достиг своей цели с нескольких попыток только 17 октября. Не пробившись до места стоянки каравана около трех миль, «Ермак» взял на борт примерно половину экипажей (141 человек), теперь уже обреченных на зимовку в проливе Вилькицкого шести судов. В числе снятых с «каравана “Литке”» были пассажиры «Моссовета» - представитель ГУСМП Эрман, кинооператор «Союзкинохроники» Рымарев, спецкор «Известий» Зингер и научные сотрудники Гаккель, Деменченок и Перевалов56. На всем пути следования «Моссовета» вплоть до постановки судна на зимовку прикомандированный к «Моссовету» гидрологический отряд изучал арктические течения, распространение и характер льдов, промерял глубины, уточнял картографические данные57.
С разрешения ГУСМП продуктовый груз «Моссовета» (включая предназначенные на экспорт рыбные консервы) был использован для питания оставшихся со своими кораблями экипажей в составе 124 человек58. Ради экономии топлива на «Моссовет» были переведены экипажи с парохода «Правда» и буксира «Молоков». Для утепления помещений зимующих кораблей использовался имевшийся на «Моссовете» груз тука59.
23 октября началась длившаяся 115 суток полярная ночь. Во время зимовки, продолжавшейся до августа 1938 г, на судах каравана был установлен строгий распорядок дня. Все без исключения зимовщики обязаны были выполнять какие-либо физические работы. Имевшие опыт высокоширотных зимовок капитан Бочек и старпом Матиясевич приложили немало усилий для обеспечения здоровой атмосферы в коллективе. По их инициативе и с разрешения Наркомата водного транспорта СССР на «Моссовете» были организованы курсы штурманов малого плавания и механиков паровых машин 3-го разряда. Капитан Бочек давал уроки английского языка. Зимовщики вели метеорологические и гидрологические наблюдения, полученные данные регулярно передавались на остров Диксон. За состоянием здоровья зимовщиков следили судовые врачи, группу которых возглавлял врач «Моссовета» Лукацкий. Таким образом, и во время зимовки «каравана “Литке”» его неформальным руководством оставался капитан «Моссовета» и его помощники. По оценке капитана Бочек, «зимовка окончилась более-менее благополучно...»60.
После освобождения из ледяного плена в августе 1938 г. «Моссовет», зарекомендовавший себя как надежное арктическое судно, по распоряжению ГУСМП, передал свой груз пароходу «Правда», взял на острове Диксон уголь и доставил его на ледоколы «Ермак» и «Ленин», которые вели борьбу за освобождение из льдов пароходов
«Садко», «Малыгин» и «Седов».
В конце сентября 1938 г. «Моссовет» прибыл в Мурманск. На следующий год он фактически выполнил двойной сквозной проход по трассе Севморпути, но пальма первенства ему так и не досталась. Вот как описал это плавание в своих воспоминаниях капитан Бочек:
«В 1939 году “Моссовету” был поручен рейс из Мурманска до бухты Провидения и обратно. Фактически сквозной двойной рейс. Пароход без помощи ледоколов прошел до Певека, где ему было приказано разгружаться, чтобы честь выполнения двойного рейса была предоставлена ледоколу “Сталин” под командованием Героя Советского Союза М.П. Белоусова. Для нового ледокола мощностью десять тысяч лошадиных сил это не было проблемой. После разгрузки в Певеке “Моссовет” благополучно вернулся на запад»61.
Во время Советско-финляндской войны «Моссовет» «плавал из Мурманска в Петсамо и всю зиму 1939-1940 годов - на Шпицберген за углем»62. В 1940 г. «Моссовет» был включен в состав Мурманского пароходства. В годы Великой Отечественной войны в составе Северного флота под командованием капитана Ф.А. Рынцина он участвовал в союзных конвоях PQ-4, QP-1 и RA-53. «Моссовет» был вооружен 75-мм орудием, двумя пулеметами «Гочкис» и двумя пулеметами «Льюис». На судне были установлены противоминный кабель и бронезащита для огневых точек и капитанского мостика. Противоледное усиление корпуса «Моссовета» неоднократно спасало его от динамических ударов обрушивающихся рядом с ним в воду бомб63.
В 1946 г. «Моссовет» был передан Владивостокскому арктическому морскому пароходству. 31 июля 1947 г. в проливе Лонга Восточно-Сибирского моря, ведомый опытным полярным капитаном М.В. Готским, пароход «Моссовет» попал в сильное ледовое сжатие, получил серьезные повреждения и, не смотря на усилия экипажа, затонул. Экипаж «Моссовета» перешел на сопровождавший его ледокол «Микоян»64. Согласно воспоминаниям А.А. Афанасьева, начальника (с августа 1946 г.) ГУСМП, лично доложившего И.В. Сталину о гибели парохода, в ответ он услышал: «Что вы дрожите, молодой человек? Арктику без потерь не освоишь»65.
Но вернемся в 1930-е годы. Своеобразным утешением экипажу «Моссовета» и оправданием его капитану стало решение Коллегии ГУСМП признать двойной сквозной рейс «Моссовета» 1937 г. выполненным. ГУСМП таким образом отчасти спасло и само себя от обвинений в авантюризме. Аргументы Коллегии ГУСМП воспроизведены в официальном отчете о плавании парохода «Моссовет» в 1937 г:
«Зимовка “Моссовета” совсем не означает, что двойной сквозной рейс по Северному пути невозможен в одну навигацию. Сроки прохождения “Моссовета” через проливы как на восток, так и на обратном пути следует считать очень ранними; к проливу Вилькицко- 60
го “Моссовет” на обратном пути подошел уже 7 сентября. Причина зимовки “Моссовета” отнюдь не заключается в том, что это судно совершало в течение одной навигации двойной сквозной рейс. Как известно, в истекшую навигацию зазимовали и другие суда, в частности суда ленского рейса. Разбор причины зимовки кораблей не является нашей темой. Укажем лишь, что основная из этих причин - плохое, подчас вредительское, руководство операциями»66.
В конце 1930-х гг. клишированная формула «плохое, подчас вредительское, руководство» широко использовалась для объяснения провалов в хозяйственной сфере.
С какими же реальными трудностями столкнулся экипаж «Моссовета»? Какими факторами они были порождены? Какие решения предлагались? Что в результате их осуществления получалось?
Лед, пламень и «вредительство»
Поскольку двойной сквозной рейс парохода «Моссовет» был тщательно подготовлен, его неудача более ярко, нежели другие провалы арктической навигации 1937 г, высвечивает тот комплекс взаимосвязанных проблем, которые вызвали «срыв всех работ в Арктике»67. А именно: проблемы ледокольного сопровождения транспортных судов, снабжения ледоколов и транспортных судов топливом и управления движением по трассе Севморпути.
В литературе прочно утвердилось мнение, что лишь жестко отстроенная «арктическая вертикаль» могла обеспечить эффективное управление арктической навигацией68. К концу 1930-х гг. ГУСМП, как принято считать, представляло собой учреждение с характерным для центральных государственных учреждений того времени набором черт: единоначалие, чрезмерная централизация, директивные и идеологизированные методы управления69. На организационных схемах ГУСМП все так и выглядело, но на деле множество местных начальников и партийных работников, «пользуясь тем, что на таких больших расстояниях их трудно проверять... просто переставали работать»70. Не стоит преувеличивать и идеологическую мотивацию полярных руководителей. На партсобраниях учреждений и предприятий ГУСМП, хотя и с оговорками как о частном явлении, но с неизменным постоянством, заявлялось, «что известная часть наших работников были людьми беспринципными, безыдейными... беззубыми делягами, культурными в кавычках»71. Наконец, централизация управления оборачивалась высокой забюрократизованно-стью рабочего процесса, узковедомственным подходом к решению общих задач и, как следствие - острыми межведомственными конфликтами.
Так, во главе ГУСМП в 1932-1939 гг. стоял выдающийся полярный исследователь Шмидт. На местах руководство навигацией осуществляли начальники Западного (от Мурманска до острова Дик- сон) и Восточного (от острова Диксон до Чукотки) секторов трассы Семорпути. В навигацию 1937 г. ими были соответственно П.П. Ковель (находился на ледоколе «Ермак») и Ф.И. Дриго (находился на ледоколе «Красин»), Трения постоянно возникали как по горизонтали (между начальниками секторов), так и по вертикали (между ГУСМП и секторами). Когда срыв плана навигации 1937 г. стал совершенно очевиден, организационная «горячка», в целом характерная для ГУСМП 1930-х гг., приобрела совершенно гротескный вид. Ситуация осложнялась болезнью Шмидта, из-за чего он не всегда мог урегулировать конфликты между своими сотрудниками. Никакого «единоначалия» здесь не было.
«Распоряжения шли из разных центров управления, часто одно противоречило другому, а советы и предложения людей опытных -капитанов ледоколов, летчиков, начальников научных экспедиций - не принимались во внимание. И этот создавшийся хаос, и резко осложнившаяся ледовая обстановка там, где по прогнозу ее не ждали, привели к тому, что каждый начал действовать по-своему. В результате не оказалось организующего и координирующего руководства»72.
В этом управленческом «хаосе» и происходило плавание парохода «Моссовет».
Капитан Бочек считался любимцем Шмидта73. Еще в ходе подготовки плавания начальник ГУСМП заверил капитана «Моссовета», что двойной сквозной рейс парохода входит в число приоритетных заданий навигации 1937 г. «Нам говорили, - сообщал в “Рейсовом донесение “Моссовета”” уполномоченный ГУСМП Эрман, - что двойной рейс парохода “Моссовет”, поскольку ограничено время, будет обставлен таким образом, что проводка его будет проводиться вне всякой очереди... Мы получили от тт. Шмидта, Бергавинова и Крастина поздравительную телеграмму по поводу окончания первой части нашего рейса с выражением твердой уверенности, что и вторая часть нашего рейса будет выполнена так же, как и первая»74. В то же время при организации движения по трассе Севморпути начальники секторов решали в первую очередь или исключительно лишь те задачи, которые возникали в их собственной зоне ответственности. Общее положение дел на трассе Севморпути относилось к компетенции находящегося в далекой Москве ГУСМП. Из-за этого уже на первом, в целом благополучном, этапе пути «Моссовета» между капитаном Бочек и уполномоченным ГУСМП Эрманом, с одной стороны, и начальником Западного сектора Ковелем и капитаном ледокола «Ермак» Ворониным - с другой, произошел ряд «стычек», урегулирование которых потребовало вмешательства Москвы. Ковель и Воронин явно не считали рейс «Моссовета» приоритетным:
«[25 июля] на о. Диксон я [Г.Э. Эрман. -М.АД совместно с капитаном парохода “Моссовет” тов. Бочек поехали на ледокол “Ермак” 62
просить руководство “Ермака” взять на следующий день “Моссовет” с собой, т.к. отход “Ермака” предполагался на другое утро. Ковель и Воронин категорически отказали. В частности, капитан Воронин заявил: “Товарищи, нечего торопиться, все равно раньше 15 августа [мыса] Челюскина не пройти”. Тогда мы с капитаном Бочек составили телеграмму в Москву и жалобу на руководство Западным сектором, и только после этого мы получили согласие на то, что пойдем вслед за “Ермаком”. Попутно был захвачен пароход “Правда”... Это была первая наша стычка с руководством Западного сектора»75.
Если начальники секторов и торопились обеспечить ледокольную проводку транспортных судов, то лишь для того, чтобы поскорее передать их в зону ответственности смежного сектора. Гаккель прямо указывал на это, разбирая «ошибки арктической навигации» 1937 г: «...Каждый из начальников [секторов] работает в своих водах, не зная, что делается рядом, у его соседа. Как только судно перешло из одного сектора в другой, то тогда один начальник берет на себя заботу об этом судне, другой же немедленно теряет с ним всякую связь, считая дело сделанным. Дальнейшая судьба этого корабля его уже нисколько не интересует»76.
Действительно, 1 августа, доведя «Моссовет» до мыса Челюскина, «ледокол “Ермак” без всякого предупреждения поднял сигнал “Желаем счастливого плавания”, оставив нас [Пароход «Моссовет». - М.АД идти самостоятельно. На запрос капитана Бочек - как будет дальше, если будет лед, Ковель ответил, что он вызвал для нашей проводки ледокол “Литке”. Пароходы “Моссовет” и “Правда” дошли до района острова Петра, встретили мощный 10-бальный ледовой барьер... и в течение 6 суток [Подчеркнуто в документе. - М.АД поджидали подхода ледокола “Литке”»77.
На обратном пути «Моссовета» трения его комсостава с руководством Западного сектора переросли в открытый конфликт. По свидетельству Эрмана, в конце концов «Ковель ответил в довольно грубой форме... что никакого особого задания у “Моссовета” нет»78.
Неудивительно, что подготовленное Эрманом «Рейсовое донесение по двойному сквозному проходу парохода “Моссовет” 1937 г.» по своему содержанию больше походило на обвинительное заключение против руководства Западного сектора, чем на собственно рейсовый отчет. Серьезные претензии у экипажа «Моссовета» были и к организации навигации в Восточном секторе Севморпути79.
Конфликты капитанов транспортных судов с начальниками секторов возникали чаще всего по поводу находящихся в подчинении у последних ледоколов - главного инструмента проводки судов по трассе Севморпути80. Успех арктической навигации напрямую зависел от «правильной организации работы ледоколов на отдельных участках пути»81. Наладить эффективную работу ледоколов было особенно важно в навигацию 1937 г. ввиду крайне тяжелой ледовой обстановки. По плану морских операций этого года предполагалось, что ледокол «Ермак» будет работать в Западном секторе, а ледорез «Литке» - в Восточном, откуда он должен был уйти по Севморпути на запад, в Мурманск, сопровождая возвращающийся с Камчатки пароход «Моссовет»82. Подойдя на обратном пути к проливу Виль-кицкого, караван «Моссовета» оказался на границе двух секторов. Ледокол «Ермак» явно не спешил на помощь «каравану “Моссовета”», зная, что тот закреплен за «Литке». Однако ледорез «Литке» оставался «в бухте Кожевникова [в море Лаптевых], за неимением поручений от начальника операций [Восточного сектора], восемь суток, в то время как в проливе Вилькицкого шли, сжигая последний уголь, предоставленные сами себе 5 пароходов, во главе с “Моссоветом”»83. Когда «Литке» дошел до вверенного ему каравана, ледовая обстановка в проливе Вилькицкого ухудшилась до такой степени, что теперь уже сам «Литке» нуждался в помощи «Ермака».
С 3 по 17 октября ледокол «Ермак» несколько раз подходил к стиснутому льдами каравану, но всякий раз под разными предлогами оставлял попытки освободить его. В «Рейсовом отчете “Моссовета”» сообщается:
«3 октября мы с верхнего мостика парохода на горизонте ясно видели дым ледокола “Ермак”. Мы обрадовались, так как думали, что ермаковцы выполнят свое слово, данное О.Ю. Шмидту о помощи нашему каравану. Но скоро этот дым исчез и все наши попытки связаться с “Ермаком” были неудачны.
На следующий день “Ермак” сообщил, что он не мог к нам подойти, так как встретил сильный ледовый барьер, который он пробить не мог, но он имеет сведения о погоде, что на завтрашний день намечаются сильные нордовые ветры, которые, по мнению Воронина, этот барьер должны разорвать. Поэтому он воспользуется благоприятной обстановкой, подойдет к мысу Вега, где аварийный пароход “Володарский”, выведет его на чистую воду и вернется обратно к нашему каравану»84.
Капитан Бочек вспоминал, что это решение капитана «Ермака» Воронина произвело «ошеломляющее впечатление на экипажи всех судов каравана»85, откуда «наблюдали чистую воду в нескольких милях, а после ухода “Ермака” - буквально в полутора милях»86. По мнению собрания капитанов каравана, отступление «Ермака», тем более накануне ожидаемых нордовых ветров, которые могли бы улучшить ледовую обстановку, было ошибкой87. Ледокол «Ермак» вернулся к каравану только через 11 суток, потратив это время на то, чтобы освободить пароход «Володарский» (что можно было сделать и после освобождения каравана88), пополнить запасы угля (хотя на «Ермаке» уже было 2,5 тыс. тонн угля), снять с острова Русский «трех человек строительных рабочих и попутно показать зимовщикам кино-картины»89.
Пожалуй, ни в какую другую довоенную арктическую навигацию капитаны транспортных судов не предъявляли столько пре- 64
тензий ледокольной проводке, как в навигацию 1937 г. По воспоминаниям Шевелева, «все моряки очень ругали Воронина, который командовал “Ермаком”. Его упрекали за то, что он мог бы вывезти значительную часть судов из ледяного плена, но не сделал этого»90. В силу своего авторитета Воронин имел власть и над начальником Западного сектора. Так, в решающий для «каравана “Литке”» день, 17 октября, Ковель заявил капитану «Литке» Хлебникову: «Я в Арктике первый раз, мне трудно судить, по силам лед [окружающий караван] “Ермаку” или нет. Но Владимир Иванович находит, что это ледоколу не под силу, а он старый полярник, ему виднее...»91. Капитан Бочек прямо пишет: «Короче говоря, Ковель все предоставил решать Воронину единолично, уклонившись от руководства»92.
Защищаясь от обвинений в бездействии и трусости, Ковель в свою очередь обвинял капитанов «каравана “Литке”» в паникерстве93. Основания для серьезного беспокойства у капитанов транспортных судов действительно имелись. В навигацию 1937 г. крайне тяжелая ледовая обстановка осложнялась острым недостатком угольного топлива по всей трассе Севморпути. «Вопрос снабжения углем... поставлен вредительски», - отмечал Эрман94. Многие транспортные суда выходили в рейс с минимальным запасом угля, порою «поддерживая пар путем сжигания моржового сала»95. В случае попадания в ледовый плен они могли оказаться в катастрофическом положении. Так, весь «караван “Моссовета”» (за исключением самого «Моссовета», загрузившегося в Петропавловске-Камчатском 450 тоннами угля) имел дефицит угля, не позволяющий ему самостоятельно маневрировать между льдами, то есть продвигаться вперед или возвращаться назад (наличие угля на 30 сентября: «Литке» -150 тонн, «Моссовет» - 150, «Урицкий» -10, «Правда» -10, «Крестьянин» -15, «Молоков» -18 тонн)96. Именно поэтому начальник Западного сектора Ковель не разрешил «Моссовету» идти в Карское море. Капитану Бочек было приказано «находиться возле обезуглившегося каравана, оказывать ему помощь и охранять его»97.
«Угольный кризис» обрекал на зимовку в Ледовитом океане не только транспортные, но и ледокольные пароходы, а также ледорез «Литке» и ледоколы «Красин» и «Ленин»98. Среди линейных ледоколов зимовки избежал только «Ермак». Сочувствующие капитану Воронину исследователи, объясняют его «чересчур осторожные действия... тем, что “Ермак” в тот момент являлся единственным мощным линейным ледоколом в западном секторе Арктики, и его потеря могла привести к очень тяжелым последствиям»99. Более точное, на наш взгляд, объяснение действий Воронина предлагает Шевелев, занимавшийся по приказу ГУСМП расследованием деятельности командования «Ермака» в навигацию 1937 г: «Воронин был смелым человеком, но опыта работы капитана линейного ледокола у него не было. Он плавал только на ледокольных пароходах, сам решал задачу своего судна, не думая о других. А тут надо было думать за целую большую операцию. Этим и объяснялся ряд его неверных действий»100.
* * *
Советское освоение Севморпути в годы первых пятилеток имело все основные признаки, характерные для крупных кампаний периода «большого скачка». План работы ГУСМП 1937 г. был значительно увеличен по сравнению с прошлыми годами101. А ресурсов для его выполнения было явно недостаточно. «После первых успехов все казалось осуществимым. Мы явно тогда переоценили свои возможности», - отмечал позже Шевелев102.
Когда на фоне крайне сложной ледовой обстановки это стало очевидно, порядок навигации начали менять на ходу. В итоге первоначальные графики и маршруты движения судов были существенно изменены. Не дошедшие до места своего назначения суда Нордвик-ского, Ленского и Колымского рейсов были возвращены из Карского моря на запад, а часть судов, прошедших по графику с запада в море Лаптевых, вернулась не на запад, как предполагалось, а ушла на восток - в Тихий океан103.
Таким образом, вместо запланированных на 1937 г. четырех сквозных рейсов было осуществлено девять. Однако вынужденные сквозные рейсы не увеличили количество перевезенных по Севморпути грузов: пароходы пришли на восток с пустыми трюмами104.
Вскрылись недостатки и воздушной ледовой разведки. «Летная разведка арктической навигации 1937 г. была осуществлена фактически одним самолетом Махоткина, что при огромном районе от Диксона до Тикси явно недостаточно»105. Всю трассу Севморпути обслуживало только два самолета, один из которых вышел из строя106. К тому же на пике навигации практически вся полярная авиация была занята поисками самолета С.А. Леваневского.
Что касается ключевой проблемы арктической навигации 1937 г. - дефицита топлива, - то при более рациональном планировании и менее сложной ледовой обстановке приготовленных запасов угля, вероятно, было бы вполне достаточно107.
Такое положение дел было характерно для всего хозяйства страны того периода. В отличие от первой пятилетки, план второй был сверстан более реалистично, но по мере его реализации политические амбиции взяли верх, породив целый каскад повышенных обязательств. Поэтому во второй половине 1930-х гг. в «империи» ГУСМП, как и в других сферах народного хозяйства, экономические стимулы и методы организации производства и труда были почти полностью подменены политическими кампаниями и репрессиями108.
Именно сверхзавышенный план навигации 1937 г, сверхцентрализованная и потому неэффективная система управления, стремле-66
ние к показательным рекордам вызвали «серьезный срыв всех работ в Арктике». К аналогичному выводу пришел В. Барр, исследовавший случай 292-дневного ледового дрейфа каравана судов, возглавляемого ледоколом «Ленин», в 1937-1938 гг.109 Следовательно, навигация 1937 г. вскрыла не «вредительство» внутри «Арктического главка», но «пределы системы, максимальные возможности применения административно-репрессивных методов в мирное время»110.
Последние предвоенные навигации по Севморпути осуществлялись во многом с учетом предшествующего опыта. Значительное сужение функций ГУСМП, более тщательный расчет возможностей арктического судоходства и развитие ледокольного флота позволили к концу 1930-х гг. придать судовому движению по трассе Севморпути регулярный характер. Поставленная перед пароходом «Моссовет» задача - двойной сквозной проход по Севморпути - была решена в ходе навигации 1939 г.
В приказе по Главному управлению Севморпути при СПК СССР № 1240 «О мероприятиях к подготовке навигации 1940 г», подписанном и.о. начальника П.П. Ширковым и и.о. начальника Политуправления И. Клыковым 1 сентября 1939 г, в день начала Второй мировой войны, ключевой целью арктического мореплавания по-прежнему оставалось «превращение СМП в нормально действующую водную магистраль, обеспечивающую планомерную связь с Дальним Востоком». Достижение этой цели было отнесено «к концу третьей пятилетки»111.