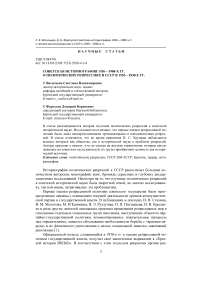Советская историография 1930-1980-х гг. о политических репрессиях в СССР в 1920-1930-е гг
Автор: Васильева Светлана Владимировна, Фартусов Дмитрий Борисович
Рубрика: Научные статьи
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история изучения политических репрессий в советской исторической науке. Исследователи отмечают, что первые оценки репрессивной политики были даны непосредственными организаторами и вдохновителями репрессий. В статье отмечается, что во время правления Н. С. Хрущева наблюдается всплеск интереса как общества, так и исторической науке к проблеме репрессий. Авторы приходят к выводу, что, не смотря на жесткие ограничения, которые накладывались на советских исследователей, их труды приобретают ценность как исторический источник.
Политические репрессии, ссср, бм асср, бурятия, террор, историография
Короткий адрес: https://sciup.org/148317454
IDR: 148317454 | УДК: 930(470) | DOI: 10.18101/2305-753X-2018-4-3-8
Текст научной статьи Советская историография 1930-1980-х гг. о политических репрессиях в СССР в 1920-1930-е гг
Историография политических репрессий в СССР располагает большим количеством авторских монографий, книг, брошюр, серьезных и глубоких диссертационных исследований. Несмотря на то, что изучение политических репрессий в советской исторической науке была запретной темой, во многих исследованиях, так или иначе, затрагивалась эта проблематика.
Первые оценки репрессивной политики советского государства были непосредственно связаны с освещением текущей деятельности органов коммунистической партии и государственной власти. В публикациях и докладах И. В. Сталина, В. М. Молотова, М. И Калинина, Я. Э. Рудзутака, П. П. Постышева, Н. В. Крыленко и ряда других деятелей освещалась практика применения репрессивных мер в отношении отдельных социальных групп населения, выступавших объектом партийно-государственной политики, комментировались показательные процессы над «вредителями», давалось обоснование необходимости борьбы с «врагами народа» и их физического уничтожения с целью «социальной защиты» завоеваний революции [1].
Официальный подход, сложившийся в 1930-е гг. в оценке репрессивной политики государственной власти, получил свое законченное выражение в «Краткой истории ВКП(б)». В соответствии с этим подходом репрессии против раз- личных социальных элементов рассматривались в качестве закономерной и необходимой меры в интересах народа и строительства социализма. Исследования 1930-х—1950-х гг. по проблемам политических репрессий, карательной политики государства, развития и функционирования исправительно-трудовых учреждений, безусловно, подвергались жесткой цензуре. Тем не менее, работы Н. Л. Рубинштейна, Л. Н. Гусева, С. А. Голунского, А. А. Липатова, Н. Т. Савенкова, С. С. Студеникина и других внесли весомый вклад в накопление информационной базы взаимодействия власти и общества по проблеме репрессий и разработке методических подходов к ее анализу [2].
Новый этап в освещении проблемы советской репрессивной политики начался после XX съезда партии, на котором Н. С. Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». В нем было подчеркнуто, что «массовые репрессии отрицательно влияли на морально-политическое состояние партии, порождали неуверенность, способствовали распространению болезненной подозрительности, сеяли взаимное недоверие среди коммунистов. Активизировались всевозможные клеветники и карьеристы» [3]. В своем докладе Хрущев осудил практику массовых репрессий в СССР, но датировал их начало 1934 г., тем самым из числа преступлений сталинского режима исключались раскулачивание и депортации крестьянских хозяйств, необоснованные политические репрессии начала 1930-х гг. В дальнейшем это наложило отпечаток на освещение проблемы репрессий в СССР в советский период. В это время в Бурятии выходят в свет фундаментальные коллективные исследования, посвященные истории Бу-рят-Монголии отличаются интересным фактическим материалом. Они легли в основу комплексного изучения репрессивной политики в Бурят-Монголии в 1920—1930-е гг., сохраняя научно-историческую значимость и сегодня [13].
Что касается произошедших перемен, то наиболее важным их аспектом стал пересмотр некоторых вопросов советской истории, включая пережитые страной политические репрессии и официальное признание самого факта преступлений сталинского режима. Репрессивная политика советского государства нашла отражение в публикациях 1960—1970-х гг., большей частью посвященных классовой борьбе в период проведения коллективизации в деревне. Это работы С. П. Трапезникова, Б. А. Абрамова, Н. А. Ивницкого и других исследователей [4]. В них уделено особое внимание периодизации процесса раскулачивания, описанию форм сопротивления крестьян и политики государства в отношении раскулаченных. В работе «Классовая борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса (1929—1932 гг.)» Н. А. Ивницкий делает чрезвычайно важный вывод: «Проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства и ликвидации на ее основе кулачества как класса привели к качественным изменениям в социальной структуре советского общества, во взаимоотношениях между рабочим и крестьянством. Крестьянство освободилось от эксплуатации со стороны кулаков, спекулянтов и ростовщиков, которые были ликвидированы в ходе социалистического преобразования сельского хозяйства» [5].
В числе публикаций, появившихся в 1960—1980-е гг. на Западе, крупное исследование о сталинских репрессиях представлял труд Р. Конквеста «Большой террор», в котором автор сумел дать наиболее подробное описание драматических событий 1930-х—1940-х гг., выделив существенные черты сталинской ре- прессивной политики, вскрыв подоплеку многих секретных операций против политических оппозиционеров, воспроизведя психологическую и моральную сферу тех лет [7]. А. Авторханов в своей работе «Технология власти» (1959), изданной в России в 1991 г., выдвинул версию, что НКВД в течение 1935—1936 гг. провел «глубоко законспирированную работу по учету бывших и установлению будущих врагов сталинского режима», на основании чего был подготовлен план чистки всех групп и слоев населения СССР, обеспечивающий создание «морально-политического единства советского народа» [8].
В Бурятии также сформировалась историография работ, посвященных данной теме. В трудах Г. Л. Санжиева и М. О. Могордоева освещены и оценены социалистические преобразования в деревне в период проведения кампании сплошной коллективизации в Сибири и Бурятии. Основное место в их публикациях занимают вопросы, касающиеся темпов, путей и итогов коллективизации. Г. Л. Санжиев отмечает, что коллективизация в Бурятии отличалась от центральных областей более низкими темпами колхозного строительства, при этом он выделяет специфику региона — кочевую форму хозяйствования и ее национальные особенности [6].
Особого внимания в контексте обсуждаемой проблемы заслуживают работы, в которых в идеологическом контексте освещались и оценивались социалистические преобразования в деревне в период проведения кампании сплошной коллективизации в различных уголках Сибири, в том числе в Бурятии [12].
Проблемные вопросы получили импульс для полноценного изучения во второй половине 1980-х гг., когда перемены внешнеполитического курса и внутренней обстановки в СССР провозгласили начало нового этапа развития советского общества. В это время в научный оборот был введен целый пласт архивных источников, благодаря открытию доступа к материалам партийных и государственных архивов, архивов ФСБ, МВД. Анализ архивных документов позволил приблизиться к определению истинных масштабов человеческих потерь. Среди монографий этого периода следует выделить труды Д. А. Волкогонова, Л. А. Гордона, Р. А. Медведева, Э. В. Клопова, Н. Н. Маслова и других [11]. Труды Д. А. Волкогонова стали первым фундаментальным исследованием, посвященным роли И. В. Сталина в организации массовых репрессий. Во многом противоположную точку зрения занял Р. А. Медведев. В его исследовании анализируется, прежде всего, социально-политические и экономические условия, породившие сталинизм как общественное явление, без привязки к свойствам одной личности.
Таким образом, характерной особенностью советской историографии репрессий является отсутствие однозначной оценки происходящих событий, односторонность не только в освещении фактов и оценок, но и в умолчании целого ряда явлений и сторон репрессивной политики. При этом качества, снижающие научную ценность советского историографического наследия, одновременно наделяют его свойствами источника, отразившего официальную политику и действия власти.
Статья выполнена в рамках гранта инновационные научные исследования Бурятского государственного университета «IT методы в исторических исследованиях: создание базы данных персоналий репрессированного буддийского духовенства в Бурятии в 1920—1930-е гг.»
Список литературы Советская историография 1930-1980-х гг. о политических репрессиях в СССР в 1920-1930-е гг
- Сталин И. В. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. - Москва: Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. - 69 с.
- Рудзутак Я. Э. Доклад председателя ЦКК ВКП(б) и Народного Комиссара РКИ СССР тов. Я. Э. Рудзутака на XVII съезде ВКП(б) 26 января-10 февраля 1934 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.hrono.ru/dokum/1934vkpb17/11_1.php (дата обращения 02.06.2018)
- Постышев П. П. Доклад второго секретаря ЦК ВКП(б) Украины тов. П. П. Постышева на XVII съезде ВКП(б) 26 января-10 февраля 1934 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.hrono.ru/dokum/1934vkpb17/3_2.php (дата обращения 02.06.2018)
- Крыленко Н. В. Беседы о праве и государстве. - Москва: Красная новь, 1924. - 184 с.
- 15 лет Бурят-Монгольской АССР: полит.-эконом. сб., посвящ. празднованию 15-летнего юбилея БМАССР. - Улан-Удэ: Бурят-Монгольское гос. изд-во, 1938. - 101 с.