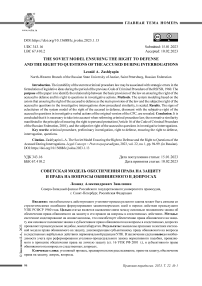Советская модель обеспечения права на защиту и права на вопросы обвиняемого в допросах
Автор: Зашляпин Леонид Александрович
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение: нестабильность действующего уголовно-процессуального закона может быть связана со стратегическими ошибками формулирования законотворческих идей в период действия предыдущего УПК РСФСР 1960 года. Целью статьи является выявление связи между основным положением закона об обеспечении права обвиняемого на защиту и его правом на вопросы в следственных действиях. Методы: системное моделирование на основе аксиомы, что способствует обеспечению права обвиняемого на защиту как основное положение закона и субъективное право обвиняемого на вопросы в следственных допросах проявляют процессуальное подобие, масштабируется. Результаты: выявлены признаки эклектики системной модели права обвиняемого на защиту, диссонирующие субъективному праву обвиняемого на вопросы в следственных вербальных действиях первоначальной редакции УПК. В заключении сделан вывод о необходимости учета при реформировании уголовно-процессуального закона нормативного подобия, проявляемого в принципе обеспечения права на личную защиту (ст. 16 УПК РФ 2001 г.), и субъективного права обвиняемого на вопросы в следственных допросах.
Уголовный процесс, предварительное расследование, право на защиту, обеспечение права на защиту, допрос, вопросы
Короткий адрес: https://sciup.org/149142550
IDR: 149142550 | УДК: 343.16 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2023.1.13
Текст научной статьи Советская модель обеспечения права на защиту и права на вопросы обвиняемого в допросах
DOI:
Распространенный вектор научных исследований сегодня – от действующего закона к предлагаемой юридической конструкции Уголовно-процессуального кодекса. В настоящей статье мы взглянем на предыдущее советское законодательство и догму права, от которых началась реформа уголовного процесса в 90-х гг. прошлого века.
Связано это с тем, что научное сообщество уже приближается к переосмыслению изменений в отечественном уголовном судопроизводстве. Так, например, С.Б. Рос-синский совершенно справедливо отмечает постоянные флуктуации норм уголовнопроцессуального закона, что вызывает обоснованный вопрос о правильности того пути, по которому шла отечественная наука с конца XX в. [8, с. 178–184]. Подобная позиция является достаточно распространенной [10, с. 3].
Актуальность темы о моделях обеспечения прав обвиняемого на защиту и праве обвиняемого на вопросы в допросах, по-нашему мнению, связана с предыдущим периодом юриспруденции. Современные проблемы (стратегические ошибки) правопони-мания и правоприменения могут вытекать из периода действия Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. (далее – УПК). Объектной областью исследования в настоящей статье будут нормы УПК, содержащие правила об обеспечении права обвиняемого на защиту, правила о субъективном праве обвиняемого на вопросы в следственных допросах и синхронные позиции комментаторов УПК.
Методика проведенного исследования сводится к системному анализу правил об обеспечении права обвиняемого на личную защиту и о субъективном праве данного участника на вопросы в вербальных следственных действиях, взятых во взаимосвязи, проверке сохранения процессуального подобия при масштабировании нормативной идеи.
Основное содержание
Норма ч. 1 ст. 19 УПК в первоначальной редакции устанавливала интересующее нас право достаточно явно: «Обвиняемый имеет право на защиту». Гипотеза нормы связывалась с условием привлечения лица в качестве обвиняемого. Именно обвиняемый получал законное право защищаться. Конкретизируя эту гипотезу, можно вывести более определенные условия, влекущие реализацию диспозиции: следователем собраны достаточные доказательства, позволяющие принять оценочное процессуальное решение (ст. 143 УПК); следователем вынесено мотивированное постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого (ст. 143 УПК). Указанное содержание гипотезы минимизирует возможность обвиняемого использовать вопросы для осуществления своей защиты.
Диспозиция нормы ч. 1 ст. 19 УПК предполагает ее очевидный управомочивающий характер. Субъект этого права – обвиняемый. Он имеет право защищаться. Пределы же защитительных действий (их содержание) из диспозиции нормы не следуют. В этой части диспозиция абстрактна, но сама норма носит общий характер, сближающий ее с нормами-принципами, что предполагает процессуальное масштабирование содержащейся в ней нормативной идеи в институтах следственных действий и конкретизацию. По этой причине право обвиняемого на вопросы в ходе допросов должно предполагаться, и, наоборот, недопущение такого права указывает на ограничение права обвиняемого на личную защиту.
Юридическая обязанность по обеспечению рассматриваемого права возлагалась на следователя и лицо, осуществляющее дознание по уголовному делу. Конструкция нормы ч. 2 ст. 19 УПК соответствовала субъективному праву ч. 1 ст. 19 УПК: «...следователь и лицо, производящее дознание, обязаны обеспечить обвиняемому возможность защищаться установленными законом средствами и способами (курсив наш. – Л. З.)». Это указывает на достаточно оформленную модель пра- воотношений, в которой обвиняемый имел право на защиту, а следователь был обязан обеспечить это право. Если формой реализации права видеть субъективное право на вопросы, то в законе должна выявляться обязанность следователя обеспечить обвиняемому реализацию этого права. При нормативном масштабировании идеи приведенных выше норм должны проявляться в институте вопросов в допросах.
Раскладывая структуру нормы ч. 2 ст. 19 УПК далее, видим, что содержательно гипотеза ч. 2 ст. 19 УПК соответствует гипотезе ч. 1 ст. 19 УПК (если собраны достаточные доказательства; если вынесено мотивированное постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого). Юридическая обязанность следователя по обеспечению права на защиту возникала сразу после установления условий, указанных в гипотезе нормы. Диспозиция же нормы ч. 2 ст. 19 УПК включала правило поведения для следователя, которое фактически ограничивало его юридическую обязанность (а вместе с этим и субъективное право обвиняемого) обеспечивать право на защиту, либо возможность защищаться. Реальное обеспечение права в таком случае не являлось целью деятельности следователя и допускало использование обвиняемым только тех средств и способов защиты, которые были предусмотрены в законе. Это сразу обращало внимание на перспективы ограничения института вопросов обвиняемого в следственных допросах.
Соответственно указанному выше, гармонично была выстроена конструкция УПК в иной части: каталог субъективных прав обвиняемого, предусматривавшийся в нормах ст. 46 УПК, не содержал право обвиняемого на вопросы; право на вопросы свидетелю, потерпевшему и эксперту советский законодатель отдавал защитнику обвиняемого (п. 2 ч. 3, ч. 4 ст. 51 УПК); полномочия следователя не конкретизировались, раскрывались на основе принципа самостоятельности права следователя на производство следственных действий, не содержали нормы об обязанности обеспечить право обвиняемого на защиту (ст. 127 УПК).
В одном из первых (1962 г.) комментариев УПКП. С. Элькинд отмечала реальность права на защиту, которое предусматривалось в ст. 19 УПК, и его сопровождение юридической обязанностью следователя его обеспечить, а В.З. Лукашевич дополнял эту позицию указанием на то, что каталог субъективных прав обвиняемого в ст. 46 УПК не должен считаться полным, допуская и иные права данного лица [2, с. 25–26, 52], что подтверждалось и иными учеными [7, с. 82]. Прямо о праве обвиняемого на вопросы комментаторы, однако, не писали. Из комментария к приведенным нормам предполагается, что указанная реальность и широта права на защиту должна обеспечиваться и в части вопросов обвиняемого, которые он для осуществления своей личной защиты может задавать в ходе следственных допросов иным лицам.
Право на личную защиту обвиняемого, понимаемое реально и широко, должно связываться со статусом преследуемого лица как субъекта уголовно-процессуального права. Конструкция же комментируемого закона, скорее всего, связана с пониманием обвиняемого в качестве объекта уголовно-процессуальной деятельности. Право на вопросы обвиняемого, с одной стороны, объективно ограничивалось содержанием УПК (защитник, по ходатайству которого было возможно производство допросов с участием обвиняемого, вступал в дело в конце предварительного расследования; основные допросы, на результатах которых основывалось процессуальное решение о привлечении лица в качестве обвиняемого, произведены), в силу которого участие данного лица в допросах иных участников предварительного расследования было ограниченным, с другой стороны, допущение вопросов обвиняемого противоречило этатистской концепции закона, не соответствовало правосознанию советских ученых-процессуалистов.
Право на личную защиту обвиняемого в форме его вопросов в следственных допросах сводилось в период действия первоначальной редакции УПК к тем вопросам, которые обвиняемый мог задать лицу – участнику очной ставки. Структура нормы ч. 2 ст. 163 УПК, регулирующей процедуры формулирования и использования вопросов в очной ставке, представлялась следующими положениями.
Гипотеза рассматриваемой нормы предполагала, что в ходе очной ставки даны пока- зания всеми ее участниками, то есть и самим обвиняемым, отказ от дачи показаний законом не предусматривался, а фактический отказ от дачи показаний исключал использование права на вопросы; следователь использовал свое право на постановку вопросов; следователь разрешил обвиняемому задать вопросы иному участнику (ч. 2 ст. 163 УПК).
Диспозиция нормы не предусматривает каких-либо правил постановки вопросов. Определенность уголовно-процессуальной формы в данном случае отсутствовала, что не исключало некоторого процессуального хаоса. Советским законодателем, вероятно, предполагалось, что правила формулирования и использования вопросов обвиняемым в ходе очной ставки содержатся в его бытовых компетенциях как носителя языка уголовного судопроизводства.
А.Г. Александров в комментарии 1963 г. интерпретировал правила о вопросах в очной ставке таким образом, что связывал их с тактико-криминалистическими факторами деятельности следователя (решения его тактических задач). Право на вопросы иных лиц, включая обвиняемого, раскрывалось данным автором с акцентом на дискреционность полномочий следователя: возможность устранения им любых вопросов обвиняемого, необходимость разрешения следователя на постановку этих вопросов обвиняемым [6, с. 325]. Данная точка зрения соответствовала позиции и иных авторов [4, с. 246]. В этом случае буквальное толкование закона блокировало реальность и полноту права на защиту и соответствующее обеспечение этого права. Тактика проведения очной ставки, соответственно взглядам А.Г. Александрова, есть исключительная компетенция следователя. Вопросы же обвиняемого в этом случае являлись бы тактическим средством обвиняемого, попыткой реализации его собственных тактических задач. Очевидно, что комментаторы советского закона не рассматривали право обвиняемого на вопросы в очной ставке как средство защиты обвиняемого, подлежащее обеспечению следователем.
В 1992 г. законодатель изменил интересующие нас нормы. Ч. 1 ст. 19 УПК стала содержать правило об обеспечении подозреваемому и обвиняемому права на защиту, само право на защиту фиксировалось в нормах ч. 3 ст. 46 и ч. 2 ст. 52 УПК.
В комментарии 1996 г. к измененному закону Г.Н. Козырев подчеркнул, что следователь, обеспечивая права обвиняемого и подозреваемого, должен был разъяснять соответствующие права в начале каждого следственного действия. Далее в том же источнике приводится комментарий к ст. 46 УПК В.С. Шадрина о правах обвиняемого. Автор со ссылкой на положения Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которому обвиняемый должен иметь реальную возможность допрашивать (то есть задавать вопросы) лиц, дающих показания против обвиняемого, подчеркивал, что это право также должно быть обеспечено следователем [1, с. 80]. С этого момента в российском правосознании можно констатировать появление идеи о том, что право на личную защиту подозреваемого (обвиняемого) может осуществляться в форме вопросов в допросах иным лицам. Позиция же В.С. Шадрина разделялась авторами иных комментариев [9, с. 66; 3, с. 37].
Право обвиняемого (подозреваемого) на вопросы в ходе производства вербальных следственных действий в последний период действия УПК сохранилось в ч. 2 ст. 163 в неизменном виде. При производстве очной ставки, после дачи показаний ее участниками и реализации следователем права на вопросы, обвиняемый (подозреваемый) мог задать свои вопросы иным ее участникам.
В.К. Бобров в комментарии 1996 г. разъяснял право участников очной ставки (обвиняемого, подозреваемого) задавать вопросы иным лицам как обусловленное правом следователя снимать любые вопросы обвиняемого (подозреваемого), решение о чем следователь мог принимать под воздействием своих тактических интересов [1, с. 281]. Эта позиция соответствовала разъяснениям и иных ученых [5, с. 229]. По-прежнему реальность и полнота личного права на защиту, если рассматривать его через призму права обвиняемого на вопросы, проявляла качества неосуществимости. Тактическая задача следователя связывалась с преследованием обвиняемого и использованием тактических средств (системы его вопросов). Одновре- менная реализация следователем процессуальной задачи обеспечения права обвиняемого на вопросы (реализации тактической задачи и средств обвиняемого) могла восприниматься лишь в качестве процессуального парадокса.
Заключение
Обеспечение права обвиняемому на защиту возможно в тех пределах, которые устанавливаются основным законом государства. Конституция РСФСР 1937 г., формировавшая систему законодательства начального периода действия УПК, содержала в ст. 115 положение об обеспечении права обвиняемого на защиту в ходе судебного разбирательства. Конституция РСФСР 1978 г. (последний период действия УПК) имела в ст. 170 правило о том, что обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое содержалось в гл. 21 «Суд и арбитраж», то есть регулировала судебное производство, но не досудебное.
Действовавшая в последний период УПК конституция не допускала возложение юридической обязанности по обеспечению права на защиту обвиняемого на следователя, содержала понимание обвиняемого, применимое для судебного производства. Из этого вытекает и суждение о проблемности самого субъективного права. Обеспечение права обвиняемого на личную защиту в форме использования им вопросов в допросах, по нашему мнению, было максимально ослабленным.
Отраслевой законодатель советского периода ориентировался на понимание уголовного судопроизводства как абсолютно публичного. Это требовало такого конструирования института вопросов в вербальных следственных действиях, в котором уголовно-процессуальная активность следователя была доминирующей. Обеспечение защиты частного интереса (права обвиняемого на личную защиту, права на вопросы), возлагаемое на того же участника, который руководствуется публичным интересом, было или законотворческой ошибкой, или имитацией.
Если российский законодатель в действующем законе хотел гармонично обеспечить право обвиняемого на личную защиту, то он должен ввести в конструкцию ныне действу- ющего УПК РФ 2001 г. положения, гарантирующие реальную реализацию правомочий обвиняемого на вопросы иным участникам предварительного следствия, допрашиваемым в этой стадии.
Список литературы Советская модель обеспечения права на защиту и права на вопросы обвиняемого в допросах
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / А. В. Агутин [и др.]; науч. ред. В. Т. Томин. - М.: Вердикт, 1996. - 726 с.
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР 1960 г. / И. Ф. Базанова [и др.]. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. - 387 с.
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. - М.: Спарк, 1995. - 613 с.
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / отв. ред. А. К. Орлов. - М., 1976. - 624 с.
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. В. М. Савицкого [и др.]. - М.: Проспект, 1999. - 576 с.
- Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Г. З. Анашкин [и др.]; под общ. ред. В. А. Болдырева. - М.: Госюриздат, 1963. - 796 с.
- Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. Л. Н. Смирнова. - М., 1965. - 635 с.
- Россинский, С. Б. О причинах наделения органа дознания непроцессуальными полномочиями полицейского характера / С. Б. Россинский // Правовая парадигма. - 2022. - Т. 21, № 4. - С. 178-184.
- Рыжаков, А. П. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / А. П. Рыжаков. - М., 1999. - 880 с.
- Шарипова, А. Р. Концептуальные основы межотраслевой конвергенции в судебном производстве по уголовным делам: автореф. дис.... д-ра юрид. наук / Шарипова Алия Рашитовна. - Н. Новгород, 2022. - 62 с.