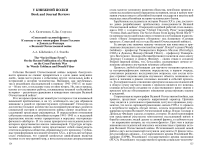"Советский тыловой фронт": к выходу в свет монографии Вэнди Голдман и Дональда Филцера о Великой Отечественной войне
Автор: Киличенков Алексей Алексеевич, Сторэлла Кармин Джон
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: У книжной полки
Статья в выпуске: 1 (75), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринят критический анализ монографии двух известных историков - Вэнди Голдман (Wendy Goldman) и Доналда Филцера (Donald Filtzer), - посвященной малоизученной теме - повседневности советского тыла периода Великой Отечественной войны и вышедшей в свет в 2021 г. Работа зарубежных исследователей рассматривается в контексте современного состояния историографии и источниковедения изучаемых событий 1941-1945 гг., при этом обращается внимание на обширность использованной ими документальной базы российских архивов. В качестве одной из отличительных черт монографии В. Голдман и Д. Филцера высоко оценивается стремление авторов сочетать нарративный и проблемно-аналитический подходы к исследуемым явлениям истории Великой Отечественной войны. Кроме того, отмечается новаторство их видения советского тыла как еще одного фронта войны - «тылового фронта». Монография охватывает весь период войны, начиная с ее первых дней, когда Советский Союз столкнулся с необходимостью решения задачи небывалых масштабов - организации скорейшей эвакуации тысяч промышленных предприятий и многих миллионов советских людей, от успеха решения которой зависела сама возможность успешного продолжения войны. При этом анализируются как предпосылки достигнутых успехов, так и причины допущенных просчетов и ошибок партийных и советских властей в организации эвакуации, размещения населения на новых территориях и его обеспечения продовольствием. Большое место в монографии отведено одной из наименее изученных в отечественной историографии тем - мобилизации и использованию трудовых ресурсов в тыловых районах страны. Делается вывод, что эта сложнейшая задача решалась в ситуации объективно нараставшего перманентного кризиса из-за острой нехватки рабочих рук. Одним из самых больших и значимых успехов советской государственной системы стало предотвращение массовых эпидемий в тыловых районах страны, угроза которых была чрезвычайно велика. Большую роль в решении как этой, так и других задач сыграла успешная пропаганда, обеспечившая эффективность принимаемых мер. Подводя итог своему исследованию, В. Голдман и Д. Филцер подчеркивают высокую эффективность советской партийно-государственной системы в решении сложнейших и беспрецедентных задач исторического масштаба, что обеспечило победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Великая отечественная война, сталинский режим, эвакуация, мобилизационная экономика, трудовая мобилизация, трудовые ресурсы, продовольственное распределение, карточная система, здравоохранение, эпидемия, пропаганда, историография
Короткий адрес: https://sciup.org/149142751
IDR: 149142751 | DOI: 10.54770/20729286_2023_1_124
Текст научной статьи "Советский тыловой фронт": к выходу в свет монографии Вэнди Голдман и Дональда Филцера о Великой Отечественной войне
A.A. Kilichenkov, C.J. Storella
The “Soviet Home Front”:
On the Recent Publication of a Monograph on the Great Patriotic War by Wendy Goldman and Donald Filzer
События Великой Отечественной войны вопреки быстротечности времени не спешат превратиться в «дела давно минувших дней», заняв место рядом с событиями других эпохальных войн и потрясений в истории человечества. Внимание, как зарубежных, так и российских исследователей к периоду 1941-1945 гг. не падает - более того, в последние годы он явно возрос. Но, как и прежде, основу его составляют работы, посвященные военной «событийной истории» - различным сражениям и конкретным эпизодам Великой Отечественной войны1.
В то же время происходит явный рост интереса к так называемой невоенной проблематике, и на эту особенность мы уже обращали внимание в одной из предшествующих публикаций2. Несмотря на достаточно большое количество исследований различных аспектов социальной истории и антропологии войны спектр подобных исследований продолжает расширяться. В определенном отношении собственно военная событийная история 1941-1945 гг. в недалекой перспективе вполне может превратиться в верхушку «историографического айсберга». И эта смена приоритетов исследовательского интереса представляется вполне закономерной. Структура исторического нарратива любой эпохи представляет собой совокупность ответов на вопросы общества, обращенные к его прошлому. Глубинные трансформации последней четверти XX в., в результате которых стало очевидным, что главной ценностью цивилизации является человек и его внутренний мир, а интеллектуальная самореализация стала залогом успешного развития общества, неизбежно привели к смене исследовательской парадигмы историков, когда в центре внимания ученых вместо событийной истории государств и институций оказалась внесобытийная история человеческого бытия.
Зарубежные исследователи истории России XX в. уже достаточно давно разрабатывают проблематику повседневности Великой Отечественной войны3. Очередной подобной работой стала вышедшая в 2021 г. в издательстве “Oxford University Press” монография “Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War IF’4 (в переводе на русский язык книга готовится к публикации издательством «Новое литературное обозрение» под названием «Суровая крепость: Советский тыл в годы Великой Отечественной войны»).
Ее авторы уже знакомы нашему читателю как известные и признанные специалисты по советской истории5. Вэнди Голдман (Wendy Goldman) - профессор Университета Карнеги-Меллон (Питтсбург, США) и Дональд Филцер (Donald Filtzer) - профессор Университета Восточного Лондона (Великобритания) посвятили свою книгу Лоуренсу Голдману и Дэвиду Филцеру - своим отцам и солдатам Второй мировой войны, что, безусловно, подчеркивает личное отношение авторов к изучаемым военным событиям.
Ценность любой публикации для научного познания прошлого, ее историографическое значение определяется, в первую очередь, сочетанием решаемых исследователем вопросов, сам состав которых отражает видение автором изучаемого объекта, понимание его места и значения в рамках ключевых явлений и событий прошлого. В содержательном отношении критерием вклада исследователей в общую сумму научного знания о прошлом является его новизна, ставшая результатом создания не существовавшего ранее знания о прошлом или же обоснованного изменения существующих оценок и суждений.
Современная историография Великой Отечественной войны, как правило, продолжает сохранять нарративный характер. Причина тому видится в длительном ограничении доступа к архивным документам, что после «архивной революции» начала 1990-х гг. привело к потребности закрыть «белые пятна», создать полноценный метанарратив истории Великой Отечественной войны. Вэнди Голдман и Дональду Филцеру удалось и первое, и второе. В своей монографии они представили результаты многолетних исследований жизни и борьбы советских людей далеко за линией фронта, в глубоком тылу - по выражению авторов, на «тыловом фронте». При этом в центре внимания исследователей оказались малоизвестные страницы истории Великой Отечественной войны. Источниковой основой новой работы двух исследователей послужили документы 21 фонда четырех российских архивов - Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Российского государственного архива социально-политиче- ской истории (РГАСПИ) и Научного архива Института российской истории РАН (НА ИРИ РАН), а в качестве иллюстративного материалы были использованы материалы Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД).
Структура монографии В. Голдман и Д. Филтцера подчинена решению двух задач - реконструкции общей картины жизни советского «тылового фронта», от начала войны и до ее завершения, и выявлению ключевых проблем военной повседневности простых людей, которым предстояло выжить и победить.
Первая глава «Паника, “выжженная земля” и эвакуация» отведена исследованию организации и хода эвакуации промышленного потенциала и миллионов советских людей на восток в условиях быстро приближавшегося фронта.
В качестве одного из тех самых «ключевых вопросов» в первой главе авторы ставят вопрос о готовности советской системы к эвакуации. При этом отмечается, что планы эвакуации на случай возможной войны были готовы еще в конце 1920-х гг, а промышленные комиссариаты подготовили свои эвакуационные планы в 1934 г, но к началу германского вторжения, они все совершенно устарели. Подготовленные обновленные планы так и остались не утвержденными, и причиной тому, по мнению исследователей, стала позиция И.В. Сталина, полагавшего, что их утверждение может спровоцировать нацистскую Германию и стать причиной панических настроений среди населения. Одновременно подчеркивается, что даже в случае утверждения этих планов, от них было бы мало пользы, поскольку их содержание совершенно не предусматривало возможность быстрого оставление столь огромных территорий, как и возникновения неблагоприятной военной ситуации в целом6. Но и возникшие в первые дни войны планы эвакуации страдали той же неспособностью предвидеть масштабы и скорость вражеского наступления. И лишь во второй половине августа 1941 г. было принято решение о создании в результате эвакуации новых промышленных центров на Урале, в Средней Азии и Западной Сибири.
В качестве отдельного вопроса в монографии В. Голдман и Д. Филцера рассматривается создание 24 июня 1941 г. Совета по эвакуации при СНК СССР. Авторы обращают внимание читателей на высокую интенсивность работы Совета (заседания почти каждый день) и минимальный его состав (Л.М. Каганович, А.Н. Косыгин, Н.М. Шверник, Б.М. Шапошников, А.И. Микоян, Л.П. Берия, М.Г Первухин), что в итоге обеспечило высокую оперативность работы. В то же время подчеркивается, что эффективность работы Совета зависела от опоры на наркоматы, местные советы и другие организации. Заместители ряда наркомов выполняли обязанности полномочных представителей Совета по эвакуации, направляя своих подчиненных для обеспечения эвакуации своих отраслевых предприятий. Систему дополняли секретари местных комитетов партии, 126
контролировавших размещение, строительство и питание в местах назначения эвакуируемых предприятий и людей7. В республиках и областях создавалась сеть эвакопунктов и эвакобаз, служивших своего рода организационным «инструментом» в руках Совета по эвакуации.
Оценивая состав, устройство и функции Совета, авторы приходят к выводу о парадоксальности его сути: будучи в высшей степени централизованным органом, он опирался на широчайшую базу местных партийных и советских органов власти; имея в своем составе властных и жестких руководителей с огромными полномочиями, Совет давал почти неограниченную власть своим представителям на местах. Именно эти парадоксальные сочетания стали основой успеха работы Совета по эвакуации. Жесткий централизм и оперативность работы Совета позволяли ему быстро реагировать на стремительно и драматично менявшуюся ситуацию на фронте. Так, уже на пятый день войны, несмотря на успокоительные заверения газет, Совет принял решение об эвакуации не только оборудования оборонных предприятий, попавших в зону действия вражеской авиации, но и рабочих вместе с их детьми8.
Большой объем полномочий, переданных на места, позволял местным органам власти проявлять самую широкую инициативу в выполнении директив из центра, включая директиву ЦК В КП (б) от 27 июня 1941 г. о «выжженной земле», требовавшей не оставлять врагу «ни килограмма хлеба, ни литра топлива». Однако В. Голдман и Д. Филцер обращают внимание и на «оборотную» сторону «парадоксальных сочетаний» системы Совета по эвакуации. Требования декрета о «выжженной земле» ставили местных руководителей перед мучительным выбором - инициативное и тщательное их выполнение ставило под угрозу жизнь тех, кто в силу разных причин просто не мог эвакуироваться.
Но исследователи полагают, что на пути проявления инициативы местных властей существовало еще одно препятствие - последствия «большого террора» 1930-х гг. Уцелевшие в масштабных чистках советские чиновники усвоили неписанные правила выживания: не принимать никаких решений без письменного приказа сверху, дистанцироваться от любого подозрительного лица и, главное, успеть заранее обвинить кого-либо другого для собственного спасения. Эти качества, выработанные годами выживания, во многом способствовали возникновению сумятицы и паники, охватившей руководство приграничных районов в первые дни войны. В монографии «Суровая и неприступная крепость» приводятся факты грабежей и погромов, устроенных населением городов и сел, брошенных местной властью на произвол судьбы в условиях приближения фронта9.
Эти и другие изъяны системы управления эвакуацией создавали огромные трудности в решении конкретных вопросов. Одним из них стало определение конкретного времени демонтажа и отправки на восток оборудования оборонных предприятий. Трудность заключалась в том, что слишком ранняя и поспешная эвакуация неминуемо сокращала производство вооружений и боеприпасов, необходимых как воздух отступающей Красной армии, опоздание же грозило захватом предприятий быстро наступавшим противником.
Другим вопросом, поиск ответа на который позволяет существенно пополнить научное историческое знание, стала организация эвакуации колхозного и личного скота - тема весьма слабо изученная в отечественной историографии. Начавшийся перегон многочисленных стад крупного рогатого скота очень скоро выявил полную неготовность местных властей к обеспечению их движения на восток. Отсутствие ветеринарной помощи, запасов фуража, удары вражеской авиации привели к огромным потерям. Тяжелой оказалась и судьба перегонщиков скота: «Плохо одетые, без денег, без еды, старики и подростки, предоставленные сами себе, были отправлены на восток без надежды пережить этот путь»10. Лишь в середине августа 1941 г. СНК и Совет по эвакуации направили местным властям инструкцию, устанавливавшую маршруты движения перегоняемого скота, пункты оказания ветеринарной помощи, обеспечения водой и фуражом. Перегонщики колхозного стада получили право следовать на восток со своими семьями и личным имуществом, им назначалась зарплата на время перегона и оплачивался проезд на транспорте.
История эвакуация гражданского населения и ранее привлекала внимание исследователей, но В. Голдман и Д. Филцер обратили внимание на политику властей в отношении этой группы. Одним из самых, если не самым трагическим последствием просчетов в организации эвакуации стало то, что и ее организаторы, и сами советские жители не придавали значения национальности эвакуируемых и беженцев. Для евреев и цыган этот просчет стал фатальным. К огромному сожалению, самым первым сведениям о начавшемся на оккупированных территориях холокосте, полученным уже в августе 1941 г, никто не придал должного внимания11.
Подлежащие организованной эвакуации вместе с предприятиями и учреждениями получали статус эвакуированных, обеспечиваемых в пути в пунктах назначения питанием, жильем и работой. Остальная часть двигавшихся на восток жителей получила статус беженцев, не имевших подобного обеспечения и организации. Но, как пишут исследователи, жестокая действительность сама все расставила по местам. Огромный наплыв и тех, и других очень скоро стер изначальные различия и на эвакопунктах, где оказывалась помощь в дороге, и в местах назначения, где предстояло найти работу и получить продуктовые карточки.
Самой сложной задачей для центральных и местных властей была эвакуация больших городов. В этом отношении история эвакуации Москвы представляет собой наиболее яркий пример. Уже 10 октября 1941 г. ГКО принимает решение об эвакуации наиболее 128
значимых московских предприятий, а через несколько дней руководство дает указание эвакуировать все возможное за 24 часа.
События этих дней, вошедшие в историю как «московская паника» или «большой драп», нашли достаточно полное отражение в отечественной историографии. Авторы монографии «Суровая и неприступная крепость» обращаются к куда менее известным событиям тех же дней в подмосковном Иваново. 16 октября местные власти распорядились начать демонтаж оборудования текстильных фабрик. Известие об этом было истолковано рабочими этих предприятий по-своему: «Они вывезут станки и оставят нас без работы». Заверения начальства в том, что оборудование будет вывезено вместе с рабочими, ничего не изменили, и вскоре город оказался охвачен беспорядками, продолжавшимися 17-19 октября. Лишь начавшиеся аресты активистов привели к их окончанию12.
В целом же авторы монографии весьма высоко оценивают деятельность Совета по эвакуации, упраздненного 25 декабря 1941 г, обращая внимание на то, что ему пришлось выполнять никем и никогда не предвиденные задания в ситуации быстро приближавшегося фронта, постоянных ударов вражеской авиации и часто возникавшей паники. Перебазирование на восток миллионов людей и тысяч предприятий стало «подвигом, не виданным ранее и никем не превзойденным впоследствии»13.
Вторая глава монографии В. Голдман и Д. Филцера «Путь на восток и переселение» отведена реконструкции процесса эвакуации.
Приводя свидетельства участников, авторы описывают страдания и лишения простых людей. Особенно тяжело было маленьким детям и старикам, для многих из которых долгий путь на восток заканчивался гибелью: «подобные истории повторялись бессчетное число раз в первый год войны», - заключают авторы14. Нехватка продовольствия, воды и тепла дополнялась бомбежками немецкой авиации. Предметом особого беспокойства властей стала угроза эпидемий, и избежать их не удалось. Детская корь и последовавший вскоре тиф стали причиной многих смертей. Исследователи подробно описывают причины и последствия распространения этих заболеваний, обращая внимание еще на один малоизвестный аспект этого явления. Нехватка подвижного состава приводила к тому, что руководству железных дорого приходилось использовать одни и те же теплушки для перевозки и эвакуированных, и воинских формирований. Нехватка времени и возможностей для дезинфекции становилась причиной распространения вшей, а вместе с ними и тифа. Отсутствие в теплушках средств гигиены и чистой воды неизбежно вело к возникновению дизентерии. Заболевшие длительное время оставались в переполненных вагонах, становясь источником новых заболеваний.
Но прибытие на место назначения еще не означало конца всех испытаний. Местные власти требовали от жителей разместить эва- куированных и беженцев, но жилища уже были переполнены, и это становилось наиболее частой причиной конфликтов между приезжими и местными жителями. Приводится пример, когда в результате приезда беженцев население одной из деревень увеличилось в 40 (!) раз. Нехватка продовольствия усугублялась полной неприспособленностью многих из городских жителей к сельской жизни, их завышенными и необоснованными требованиями, что порождало новые конфликты, в том числе и возникновения настроений бытового антисемитизма.
Перебазирование станков и оборудования, обустройство на новом месте рабочих и их семей было лишь частью огромного числа проблем, которые пришлось решать администрации предприятий. Зачастую эвакуированным предприятиям приходилось размещаться на территории и в помещениях местных предприятий, фактически, объединяясь с ними, что приводило к необходимости заново обустраивать всю систему снабжения и обеспечения. Различный технологический уровень местных и прибывших предприятий чрезмерно усложнял решение этих вопросов. Но все же, по мнению авторов монографии, итог этого масштабного процесса был очевиден. Эвакуация промышленных предприятий на восток послужила мощным толчком новой модернизации, объединяя более современные заводы с менее развитыми предприятиями, что приводило к значительному росту производства: в 1944 г. советская промышленность производила в четыре раза больше самолетов, чем в 1940 г, в десять раз больше бронированных машин и в восемь раз больше артиллерийских орудий15.
В третьей главе «Хлеб насущный: накормить людей» описывается решение важнейшего вопроса обеспечения эвакуированного населения продовольствием.
Проблема до крайности осложнилась тем, что районы традиционного производства зерна оказались к осени 1942 г. оккупированы, общее производство продовольствия сократилось до 58 % от довоенного уровня, а население неоккупированных областей увеличилось за счет эвакуации на многие миллионы человек. Угроза массового голода была вполне реальна. Авторы проводят прямую аналогию с ситуацией в России 1917 г, когда голодные бунты стали прологом падения монархии и прихода к власти большевиков. Но несмотря на то, что масштаб и острота голода в Советском Союзе в разгар войны были несопоставимы с периодом Первой мировой войны, не было ни массовых протестов, ни голодных бунтов, никаких попыток восстания. В. Голдман и Д. Филцер объясняют это различие эффективной системой распределения ограниченных ресурсов и массовой поддержкой государственной политики со стороны населения.
Действительно, советская система распределения продовольственных ресурсов смогла в целом решить проблему обеспечения населения и предотвратить массовый голод. Авторы полагают, что 130
это стало возможным благодаря опыту распределительной политики периода Гражданской войны и 1930-х гг. Особенно критической ситуация с продовольственным обеспечением стала в середине 1942 г. в связи с выходом противника к Волге и Кавказу. Государственные запасы муки сократились до половины по сравнению с 1940 г, зерна - до 30 %, сахара - до 15 %16. Очевидно, что государство не имело достаточных запасов для полноценного снабжения армии, промышленных рабочих и городского населения. Единственным способом решения этой проблемы стало создание иерархически выстроенной системы централизованного снабжения, представленной в таблице показателей калорийности ежедневного рациона питания различных групп населения17. Из этой таблицы видно, что наибольшей калорийностью отличался рацион групп, наиболее значимых для промышленности и управления - более 140 % от потребного количества калорий для высших чиновников и рабочих I категории военной промышленности, почти 100 % для шахтеров и чуть более 20 % у иждивенцев и детей. Для восполнения нехватки продовольствия использовались возможности местного снабжения и самоснабжения - коллективного и индивидуального. Но предприятиям и учреждениям приходилось использовать труд своих рабочих и для решения других задач - уборка, стирка, ремонт, приготовление пищи и тому подобное.
Прямым следствием этой системы обеспечения стал своеобразный парадокс: по мере того как военное производство становилось все более развитым и технологически совершенным, заводам и фабрикам приходилось брать на себя функции сельского хозяйства и сферы обслуживания, в результате чего в рамках отдельного предприятия начинала исчезать разница между индустриальным и аграрным производством: «бартер заменял деньги, вместо угля использовалось дерево, огороды вытесняли пищевую промышленность. Примитивные экономические отношения нашли свое место в рамках модели мощной индустриальной экономики, сломавшей немецкую военную машину»18.
В четвертой главе «Незаконное обеспечение: неравенство, уравниловка и “черный рынок”» В. Голдман и Д. Филцер исследуют оборотную сторону советской системы обеспечения населения продовольствием и всем необходимым.
Цитируя письма простых рабочих во власть, они приходят к выводу, что «на протяжении войны пирамида централизованного снабжения “корректировалась” тремя нелегальными практиками: самоснабжением, разбазариванием и воровством»19. Наиболее распространенной формой подобной «корректировки» стала организация специализированных столовых для руководящих работников и партийных чиновников. Формальным предлогом для их создания стало стремление сэкономить время для ответственных сотрудников, работавших сутки напролет и решавших важнейшие вопросы производства. Эта практика получила большое распространение и все более и более «совершенствовалась». Так, на авиазаводе № 32 в Кирове весной 1942 г. существовало уже четыре специализированных столовых, каждая из которых обслуживала соответствующих уровень руководящих работников. Самая привилегированная из них с трехразовым обильным меню, включавшим борщ с мясом, жареный картофель со свининой, яйца, сливочное масло, сыр, ветчину, кофе с молоком и пончики, была организована для директора завода, старшего инженера, трех заместителей директора, трех бухгалтеров, партийных чиновников и двух работников конструкторского бюро. Питание было бесплатным и свободным от ограничений. Столовая самого низшего уровня предлагала одноразовое питание простых рабочих, ее меню включало только жидкую мучную кашу с дольками огурца. Столь большая разница в питании достигалась за счет перераспределения установленных норм, в результате привилегированные группы получали питания в три раза больше своей нормы и в шесть раз больше реальной нормы простых рабочих20.
Другой, не менее распространенной формой самоснабжения стало использование для питания руководящих работников и партийных чиновников подсобных хозяйств, организованных почти при каждом заводе. Как показало одно из проведенных специальной комиссией расследований на авиационном заводе № 19 в Молотове (ныне - Пермь) «ни один грамм продовольствия, полученного на обширном подсобном хозяйстве завода, не был передан в рабочую столовую»21.
Многочисленные жалобы рабочих на столь вопиющие нарушения, подтвержденные результатами проверок, возымели результат. И центральная власть, услышав своих граждан, решительно взялась за наведения порядка. 17 июля 1943 г. Наркомторг СССР издал распоряжение, призванное решительно положить конец практике самоснабжения. Но в действительности власть вместо жесткого пресечения подобных практик предпочла их... упорядочить, узаконив привилегированное положение 262 200 высших чиновников центральных и местных партийных, комсомольских, профсоюзных и советских организаций. Разделенные на три категории, они официально получили право на три формы продовольственного обеспечения: продуктовые карточки, питание в столовой и продуктовые наборы (для первых двух групп).
Рабочие ведущих оборонных предприятий, разделенные на две категории, теперь уже официально получали намного меньший объем продовольствия. Если ежедневное питание чиновников первой категории обеспечивало получение 4 659 калорий, второй категории - 3 489, третьей - 3 164, то рабочие получали в два-три раза меньше: 2 015 калорий для первой категории и всего 1 527 - для второй. Столь большая разница в количестве калорий объяснялась тем, что чиновники первой категории получали ежедневно 309 г мяса или 132
рыбы, в то время как рабочий второй категории - всего 59 г, жиры -79 и 13, сахара - 102 и 17 соответственно. Но и эти легализованные привилегии показались недостаточными для чиновников. В начале 1944 г. Наркомторг СССР провел широкомасштабную проверку выполнения его распоряжения от 17 июля 1943 г. Она показала, что все это время практика самоснабжения и перераспределения по-прежнему оставалась широко распространенной.
Проблема обеспечения продовольствием сохраняла свою чрезвычайную остроту и по причине обычного воровства. Чиновники, имевшие доступ к хранению и распределению продуктов питания, несмотря на все меры контроля, продолжали воровство в огромных масштабах. Воровали везде: на фабриках, заводах, госпиталях, школах, в детских домах. В 1942 г. в общей сложности были выявлены факты кражи продовольствия на общую сумму 167 млн руб., в 1943 г. - 212 млн руб. и в 1945 г. - на 560 млн руб.22 Воровство чиновников дополнялось воровством обычных людей, вынужденных таким образом решать проблемы питания самих себя и своих семей. Но как отмечают авторы монографии, власти не торопились наказывать рабочих за мелкое воровство. Борьба же с «разабазариванием» так и не стала приоритетом центральных властей. В июле 1944 г. в Иркутске было выявлено 40 подобных случаев, из которых лишь 15 были доведены до суда и только пять завершились приговором23.
Острая нехватка продуктов питания неизбежно порождала высокий спрос на них, а вместе с ним и «черный рынок» с его знаменитыми «толкучками». Эта нелегальная форма позволяла хотя бы отчасти компенсировать невозможность получить товары через государственную систему распределения, которая обеспечивала всем необходимым только партийных и советских чиновников. По этой причине «черный рынок» становился местом квазиторговли, где наиболее бедные люди могли купить или выменять то, что им полагалось от государства, но было так или иначе украдено теми, кто обязан был распределять эти товары между рабочими. В итоге «черный рынок», с одной стороны, корректировал и дополнял систему государственного распределения, с другой же - делал бедных еще беднее, а богатых еще богаче. Это был еще один парадокс советской системы: стремясь сохранить себя, она неизбежно нарушала свои же собственные основополагающие принципы, среди которых равенство стало первой жертвой.
В завершение главы авторы монографии оспаривают мнение известного российского исследователя В.С. Пушкарева, считающего, что практики нелегального перераспределения продовольствия во время войны стали основой возникновения нового класса «торговой мафии», объединившей чиновников и торговцев «черного рынка». В. Голдман и Д. Филцер исходят из того, что у «нового класса» не было возможности конвертировать свои денежные и материальные ресурсы в капитал. Имевшиеся в его распоряжении деньги и иродо- вольствие не могли стать основой для нового статуса, а проведенная после войны финансовая реформа уничтожила и эту основу24.
Проблема использования трудовых ресурсов в советской экономике исследуется авторами монографии в пятой главе «Все для фронта: свободный труд, заключенные и депортированные».
Авторы отмечают, что в сравнении с другими участниками Второй мировой войны Советский Союз оказался в самой кризисной ситуации. В то время как США и Великобритания могли опираться на рынок свободной рабочей силы с большим ресурсом, Германия использовала 5,5 млн остарбайтеров и заключенных концлагерей и гетто, Япония также применяла рабский труд, только СССР мог рассчитывать на собственные трудовые ресурсы. К тому же почти треть этих ресурсов была потеряна в результате оккупации, около 40 % опытных рабочих ушли на фронт. Нехватка рабочей силы обострилась в результате массовой эвакуации на восток. Если в июне 1941 г. на востоке страны находилось лишь 18 % оборонной промышленности, то в 1942 г. эта доля составила уже 76 %. Вместе с предприятиями удалось эвакуировать лишь половину их рабочих, а местные трудовые ресурсы оказались весьма ограничены.
По сути, исход войны для СССР зависел от того, насколько власти удастся провести трудовую мобилизацию. Первым шагом в решении этой проблемы стало создание 30 июня 1941 г. Комитета по распределению рабочей силы. К середине 1944 г. Комитет представлял собой мощную структуру, включавшую 148 бюро в республиках и областях страны и 279 - в городах и селах. В результате работы Комитета и местных военкоматов в 1941-1944 гг. было мобилизовано почти восемь миллионов рабочих для постоянной работы и 6,75 млн - для временной25.
Дополнительным резервом трудовой и воинской мобилизации стали заключенные ГУЛАГа, насчитывавшие в 1941 г. 2,7 млн. Более 1 млн заключенных из лагерей ГУЛАГа в 1941-1944 гг. было отправлено на фронт. В ноябре 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР объявил амнистию заключенным, отбывавшим срок наказания до одного года. В январе 1942 г. амнистию распространили на отбывавших срок до двух лет. Подлежащие мобилизации по возрасту направлялись в распоряжение военкоматов, остальные - в промышленность и сельское хозяйство. Помимо этого, ГУЛАГ поставлял рабочих для промышленности на контрактной основе. В 1943-1944 гг. в среднем около 200 тыс. заключенных были заняты в индустрии, что составляло около 10 % общей численности заключенных в системе ГУЛАГа. Абсолютное большинство - около 90 %, - оставаясь под контролем НКВД, работало на строительстве железных дорог, заводов, аэродромов и на лесозаготовках. Согласно отчетам НКВД, с 1941 по 1944 гг. 1 517 млн. заключенных были заняты на этих работах. Дополнительным источником принудительного труда в интересах ведения войны стали ссыльные поселенцы, объ-134
единенные в «Трудовую армию». По статусу они занимали среднее положение между мобилизованными Комитетом по распределению рабочей силы и заключенными ГУЛАГа, «живущими как заключенные и работавшими как свободные». В этой группе среди других оказались представители депортированных народов. Так, в состав «Трудовой армии» были включены 315 тыс. этнических немцев, проживавших в СССР, что составило почти третью часть от общего числа оказавшихся в ссылке.
Но, как считают авторы, «массовое использование принудительного труда имело ограниченные возможности... В большинстве своем заключенные и ссыльные были неспособны выполнять тяжелую работу, для которой у них просто не было сил из-за плохих условий жизни и недостаточного питания. Крепкие и трудоспособные люди очень быстро превращались в инвалидов, смертность среди них росла очень быстро»26. Надвигался кризис рабочей силы, и одним из первых его свидетельств стало привлечение в промышленность наиболее доступного резерва городских жителей - рабочих невоенного сектора, выпускников училищ, домохозяек, подростков и безработных.
Шестая глава «Кризис системы труда: пределы мобилизации» посвящена анализу кризиса мобилизации трудовых ресурсов советской экономики в начале 1943 г.
Возникновению кризиса во многом способствовало начало освобождения оккупированных территорий и начало восстановления разрушенной войной экономики, потребовавших сотни тысяч дополнительных рабочих рук. Как пишут авторы, «Комитет [по распределению рабочей силы] превратился в машину постоянной мобилизации, решающую одну единственную задачу - поиск новых рабочих, чтобы заменить умерших, больных и сбежавших... Местные власти проводили бесконечные мобилизации, но мобилизованные оказывались слишком стары или юны, больны или слабы для работы...»27
Кризис достиг своей высшей точки в 1943 г, когда оборонная промышленность получила только 70 % от потребного количества новых рабочих, транспорт - 65 %, строительство -58 % и все остальные отрасли - 53 %. Прежние источники трудовой мобилизации были исчерпаны. Так, на территории РСФСР к началу 1945 г. около 70 % женщин были заняты наемным трудом, что составляло 56 % от общего числа наемных рабочих. Новым источником трудовых мобилизаций стало население сельских районов. Если в 1942 г. доля сельских жителей среди мобилизованных в промышленности составляла 23 %, то в 1944 г. она достигла 62 %.
Для преодоления кризиса весной 1943 г. Комитет по распределению рабочей силы включил в состав мобилизуемых рабочих 500 инвалидов по слуху из Челябинска, Кургана и Кирова, направив их на производство боеприпасов, и эта практика продолжилась в 1944 г.
Возраст подростков, обучавшихся в фабрично-заводских училищах и подлежащих трудовой мобилизации, был снижен до 14 лет для мальчиков и 15 лет для девочек. В июне 1943 г. 81 тыс. подростков из городов и сел 50 областей и республик были направлены в шахты и на металлургические предприятия. В случае нехватки рабочих рук мобилизация распространялась и на студентов. В августе Комитет разрешил мобилизовывать матерей с детьми в возрасте от четырех до восьми лет, для чего на предприятиях создавались детские сады и столовые. В сентябре 1943 г. последовала амнистия малолетним преступникам, освобожденные подростки в возрасте от 14 лет также направлялись на оборонные предприятия или технические школы. В это же время в промышленность стали направлять и солдат, демобилизованных по состоянию здоровья, и призывников, освобожденных от службы.
Поиск новых источников рабочей силы сопровождался ужесточением трудового законодательства, чему посвящена седьмая глава - «Ограниченное принуждение: трудовые законы военного времени».
Авторами монографии обращается внимание на то, что ужесточение началось еще до войны известным законом июня 1940 г, запретившим рабочим увольнение и переход на другую работу без разрешения администрации предприятия. В декабре 1941 г. самовольный уход с работы был приравнен к «трудовому дезертирству» и наказывался тюремным заключением. Масштабы применения этого закона оказались огромными. В 1941-1945 гг. более 7 млн рабочих были осуждены за самовольный уход с работы. В. Голдман и Д. Филцер приходят к заключению, что этим законом завершалась милитаризация труда, и рабочие, фактически, приравнивались к военнослужащим. Несмотря на ужесточение наказаний за самовольный уход с работы, «текучесть кадров» оставалась чрезвычайно высокой. В 1942-1944 гг. усилиями властей было мобилизовано 5 771 млн рабочих, но в итоге за этот же период число постоянно занятых рабочих в промышленности, строительстве и на транспорте выросло всего на 1 820 млн человек, и это означало, что из трех мобилизо-136
ванных на рабочем месте оказывался лишь один рабочий.
В. Голдман и Д. Филцер видят причины этого явления в высокой смертности среди рабочих, потере трудоспособности или призыве на военную службу, а часто причиной становилось банальное бегство. Но и в этом случае действительность оказалась гораздо сложнее. Исследователи полагают, что бегство с «трудового фронта» не было проявлением антивоенных настроений. Главным становилось сильнейшее желание вернуться домой из-за голода, тяжелых условий работы и приближающегося окончания войны. Более того, большинство дезертиров «трудового фронта», вернувшись, быстро находили себе работу на заводах или в сельском хозяйстве и продолжали работать ради победы.
В непростой ситуации кризиса рабочей силы государство было вынуждено ограничивать жесткость своих действий. Как итог, лишь один миллион из общего числа нарушителей был отправлен в лагеря ГУЛАГа, и все они были амнистированы в июле 1945 г. «Трудовое законодательство военного времени оказалось более репрессивным на бумаге, нежели в реальности» - заключают авторы «Суровой и неприступной крепости»28.
Восьмая глава - «Общественное здравоохранение» - отведена анализу деятельности советской медицинской системы, столкнувшейся с угрозой массовых эпидемий.
Авторы проводят историческую параллель с ситуацией Первой мировой войны и Гражданской войны в России, когда эпидемии холеры, сыпного и брюшного тифа привели к миллионным жертвам среди мирного населения. Распространению эпидемий, как и в 1918-1920 гг., в высшей степени способствовала массовая эвакуация, нехватка медицинского персонала, отсутствие средств гигиены и чистой воды. Маршруты движения беженцев превращались в каналы распространения эпидемий. В. Голдман и Д. Филцер выделяют и другие обстоятельства, способствовавшие распространению заболеваний. В самом конце 1930-х гг. произошло значительное и общее снижение потребления, возникла нехватка продуктов питания, что неминуемо вело к понижению индивидуального и коллективного иммунитета и делало советских людей более уязвимыми для эпидемических болезней. К этим факторам необходимо добавить довоенный дисбаланс в распределении медицинских ресурсов, отсутствие существенных вложений в санитарную инфраструктуру и стремление подчинить медицину интересам индустриализации страны.
Ужасающая катастрофа массовых эпидемий периода Гражданской войны грозила повториться с началом германского вторжения. Этому чрезвычайно способствовали два прямых следствия начавшейся войны - голод и недоедание, неизбежным следствием которых стало массовое распространение туберкулеза. Главными факторами, предотвратившими новую эпидемиологическую катастрофу, стали мобилизационные усилия государства, сумевшего самыми простыми и доступными мерами ограничить распространение заболеваний. В условиях острой нехватки медицинского персонала и готовой инфраструктуры ставка была сделана на создание санитарных кордонов и обязательное соблюдение простейших процедур по дезинфекции на транспортных коммуникациях, часто становившихся преградой между жизнью и смертью миллионов. Именно эти меры сыграли ключевую роль в недопущении рецидивов эпидемии тифа в 1942 г. и стали непременной частью противоэпидемиологи-ческих мер по окончании войны. Представление о масштабе действий советской системы дает факт обучения на курсах гигиены, первой помощи и борьбы с эпидемиями 13 млн взрослых и 5,5 млн юных советских граждан. Эти меры дополнялись в высшей степени впечатляющей пропагандой, радиопередачами, заводскими газетами, подчеркивавшими необходимость соблюдения элементарных требований гигиены.
-
В. Голдман и Д. Филцер обращают особое внимание на отдаленные результаты экстраординарных усилий государства во время войны: «Миллионы школьников, прошедших курсы соблюдения гигиены... став родителями в середине 1950-х гг., использовали полученные знания в повседневной жизни. В период правления Хрущева детская смертность снизилась до уровня западных стран, что стало результатом не только появления антибиотиков, но и успехов образовательных программ военного времени»29.
В девятой главе «Наше дело правое: лояльность (верность, преданность), пропаганда и общественные настроения» авторы монографии, обращаясь к весьма сложной теме - общественным настроениям в период Великой Отечественной войны, - фиксируют сосуществование в современной историографии двух оценочных позиций.
В то время, как часть исследователей полагают, что большинство советских людей оставались «пламенными и воинствующими патриотами, готовыми к преодолению невзгоды повседневной жизни», другая группа исходит из того, что страна оказалась расколотой на тех, кто ожидал «легкой оккупации», и тех, кто был готов скорее умереть, чем допустить это. Точно так же среди историков нет единодушия и в оценках эффективности советской пропаганды.
Но все же при всех различиях в оценках и понимании исследуемых событий многие авторы сходятся в том, что большинство советских людей в тылу по разным причинам оставались лояльными власти и твердо поддерживали ее политику ведения войны. Авторы «Суровой и неприступной крепости» видят в этом результаты работы большой пропагандистской машины СССР, созданной еще в 1920-е гг. после появления в ЦК В КП (б) Управления агитации и пропаганды (Агитпроп). Ведущей формой ее работы стали так называемые беседы, позволившие во время войны освещать ключевые вопросы международной политики, хода боевых действий, 138
повседневной жизни и промышленного производства. Работа пропаганды получила мощную поддержку «снизу» благодаря усилиям и творческой интеллигенции, и рабочих, мысли и инициативы которых находили отражение в газетных статья и радиопередачах, а затем получали общественную поддержку Советские люди получали возможность выразить их личные чувства скорби и жертвенности. Пропаганда стала наиболее эффективной, сумев наполнить личный опыт смыслами общественно-политического нарратива.
Другой сильной стороной советской пропагандистской машины была мобильность, ее дискурс менялся в зависимости от хода событий на фронте, состояния экономики, а затем и начавшегося освобождения оккупированных территорий. Так, поражения первых недель войны заставили пропаганду сменить тон на более честный и открытый, отвечавший чаяниям людей. Когда же война перешла на территорию Германии, газеты, следуя указаниям вождей, отказались от пропаганды ненависти.
Заключительная, десятая, глава монографии В. Голдман и Д. Филцера «Освобождение и восстановление» отведена проблематике, связанной с последствиями немецкой оккупации большой части советской территории.
Глава начинается описанием колоссальных разрушений и потерь, причиненных войной и оккупацией западным областям Советского Союза. Возвращение к мирной жизни на оккупированных землях оказалось чрезвычайно трудным и долгим. Одной их первых проблемы стала нехватка руководящих кадров и трудовых ресурсов: эти территории в прямом и переносном смысли были просто обескровлены. И резерва для восполнения потерь просто не было. ВКП(б), как главный источник рекрутирования советских управленцев, понесла огромные потери. К середине 1943 г. погибло и пропало без вести 1 млн 116 тыс. коммунистов, из числа оставшихся 58,6 % были призваны в армию. Численность коммунистов на освобожденных территориях сократилась и вследствие исключения из партии тех, кто сотрудничал с оккупантами. Нехватка рабочих рук усугублялась проводившимися органами НКВД депортацией и фильтрацией с целью выявления коллаборантов, дезертиров и уклонявшихся от мобилизации. Так, авторы указывают, что только в 1943 г. на освобожденных территориях проверке подверглись 931 549 человек, часть из которых бала репрессирована.
Одно из прямых следствий нехватки ресурсов В. Голдман и Д. Филцер видят в парадоксальном кризисе трудовой мобилизации 1944 г. Колоссальный объем разрушений на освобожденных от оккупации территориях требовал все новых и новых рабочих рук. Но почти полное отсутствие системы обеспечения - жилья, питания, медицины и транспорта - вело к падению эффективности труда и прямым человеческим жертвам. Пытаясь изменить ситуацию, ГКО в январе 1944 г. прямо потребовал от местных властей обеспечить необходимые условия для трудомобилизованных. Но непосредственным результатом этого постановления стал отказ партийных и советских чиновников принимать направляемые в их регионы трудовые ресурсы, что создало небывалый кризис нехватки рабочей силы, усугублявшийся массовым дезертирством рабочих по причине тяжелейших условий жизни: только в 1943-1944 гг. наказанию за самовольный уход с работы подверглись почти 700 тыс. рабочих. Преодоление этого кризиса потребовало новых усилий и от властей, и от простых советских людей.
Подводя итог своему исследованию Вэнди Голдман и Доналд Филцер, напоминают читателю, что именно на Восточном фронте были сосредоточены главные силы нацистского блока, и что исход всей Второй мировой войны решался именно там. Именно Красная армия сокрушила мощь вермахта и, двинувшись на запад, спасла заключенных Майданека, Собибора, Белжеца, Треблинки, Аушвица, освободила миллионы людей на оккупированных землях. Представить победу антигитлеровской коалиции без Советского Союза невозможно.
Список литературы "Советский тыловой фронт": к выходу в свет монографии Вэнди Голдман и Дональда Филцера о Великой Отечественной войне
- Мягков М.Ю. Сталинградская битва в контексте современной истории // Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 1 (28). С. 22-28;
- Быков А.В. Современная отечественная историография крупнейших сражений Великой Отечественной войны // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. 2014. № 4 (4). С. 60-72;
- Кузинец И.М. Балтийский флот в битве за Ленинград // Наука. Общество. Оборона. 2017. № 3 (12). С. 8;
- Корчагин Е.А. Водоснабжение войск в Великой Отечественной войне // Вестник МГСУ. 2020. Т. 15. № 5. С. 746-752;
- Фоменко М.В. Сражение за Калинин. 2-е изд. Москва, 2020; Кондратенко С.Ю. Брянский «котел»: Трагедия осени 1941 года. Москва, 2021;
- Кондратенко С.Ю. Битва за Тулу: «Остановить Гудериана!». Москва, 2021;
- Коломиец М.В. Танковая битва под Сенно: «Последний парад» мехкорпусов Красной армии. Москва, 2022;
- Ворсин В.Ф., Снегова Ю.В. «Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи»: Тыловое обеспечение войск в Висло-Одерской стратегической наступательной операции (12 января - 3 февраля 1945 г.) // Военно-исторический журнал. 2022. № 1. С. 60-71;
- Кондратенко С.Ю. Оборона Тулы как фактор победы в Московской битве // История и архивы. 2022. № 1. С. 12-25.
- Кац Н.Г., Киличенков А.А. «Выжить, не умереть...»: К изданию в США коллективной монографии о продовольственном снабжении в СССР во время Великой Отечественной войны // Новый исторический вестник. 2016. № 4 (50). С. 179-198.
- Enstad J.D. Soviet Russians under Nazi Occupation: Fragile Loyalties in World War II. Cambridge, 2018; Ament S. Sing to Victory! Song in Soviet Society during World War II. Brookline (MA), 2019; Schechter B.M. The Stuff of Soldiers: A History of the Red Army in World War II through Objects. Ithaca (NY), 2019.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021.
- Hunger and War: Food Provisioning in the Soviet Union during World War II / Ed. by W.Z. Goldman, D. Filtzer. Bloomington (IN): Indiana University Press, 2015; Filtzer D. Starvation Mortality in Soviet Home-Front Industrial Regions during World War II // Hunger and War: Food Provisioning in the Soviet Union during World War II. Bloomington (IN), 2015. P. 265-338; Goldman W. Not by Bread Alone: Food, Workers, and the State // Hunger and War: Food Provisioning in the Soviet Union during World War II. Bloomington (IN), 2015. P. 44-97; Filtzer D. Factory Medicine in the Soviet Defense Industry during World War II // Russian and Soviet Healthcare from an International Perspective: Comparing Professions, Practice and Gender, 1880 - 1960 / Ed. by S. Grant. London: Palgrave Macmillan, 2017. P. 77-95.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 14, 15
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 16, 17.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 20.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 22-25.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 32.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 39.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 48-51.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 55.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 58.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 93.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 99.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 106.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 126.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 129.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 132-134.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 135.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 143.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 158.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 162-163.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 165-167.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 195.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 229.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 262.
- Goldman W.Z., Filtzer D. Fortress Dark and Stern: The Soviet Home Front during World War II. Oxford; New York, 2021. P. 292, 293.