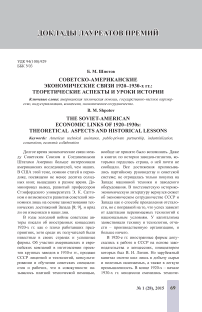Советско-американские экономические связи 1920-1930-х гг.: теоретические аспекты и уроки истории
Автор: Шпотов Борис Михайлович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Доклады лауреатов премий
Статья в выпуске: 1 (28), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены основные результаты монографического исследования «Американский бизнес и Советский Союз в 1920-1930-е годы: Лабиринты экономического сотрудничества». М. : ЛИБРОКОМ, 2013. По итогам конкурса 2014 г. Научный совет РАН по проблемам российской и мировой экономической истории удостоил автора диплома и премии имени академика РАН И. Д. Ковальченко.
Американская техническая помощь, государственно-частное партнерство, индустриализация, концессии, экономическое сотрудничество
Короткий адрес: https://sciup.org/14723758
IDR: 14723758 | УДК: 94(100):929
Текст научной статьи Советско-американские экономические связи 1920-1930-х гг.: теоретические аспекты и уроки истории
Долгое время экономические связи между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки больше интересовали американских исследователей, чем наших. В США этой теме, помимо статей в периодике, посвящено не менее десятка солидных книг, вышедших в разное время. Доминировал вывод, развитый профессором Стэнфордского университета Э. К. Саттоном о возможности развития советской экономики лишь на основе заимствования технических достижений Запада [8; 9], и вряд ли он изменился в наши дни.
В годы холодной войны советские авторы писали об иностранных концессиях 1920-х гг. как о плохо работавших предприятиях, хотя среди их получателей были известные в своих странах и успешные фирмы. Об участии американских и европейских компаний в изготовлении проектов крупных заводов в 1930-е гг., продаже СССР лицензий и технологий, консультировании и обучении советских специалистов и рабочих, что в совокупности называлось платной технической помощью, вообще не принято было вспоминать. Даже в книгах по истории заводов-гигантов, которыми гордилась страна, о ней почти не сообщали. Все достижения приписывались партийному руководству и советской системе; не отрицалась только покупка на Западе машинной техники и заводского оборудования. В постсоветскую историкоэкономическую литературу вернулся сюжет об экономическом сотрудничестве СССР и Запада как о способе преодоления отсталости, но с поправкой на то, что успех зависит от адаптации перенимаемых технологий к национальным условиям. У капитализма заимствовали технику и технологии, отчасти – производственную организацию, и больше ничего.
В 1920-е гг. иностранные фирмы допускались к работе в СССР на основе законодательства о концессиях, инициатором которых был В. И. Ленин. Но зарубежный капитал охотно шел лишь в добычу сырья и полезных ископаемых, а также в легкую промышленность. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. концессии сменились техниче- ской помощью. Это были не единичные заказы, а широкая программа, которая закладывала новый фундамент для всей индустрии, в первую очередь – тяжелой промышленности, энергетики и транспорта. Это помогло одержать победу в Великой Отечественной войне и стать влиятельной силой в международных отношениях. Так или иначе, превращение страны социализма в экономически развитую державу осуществлялось через активное взаимодействие с
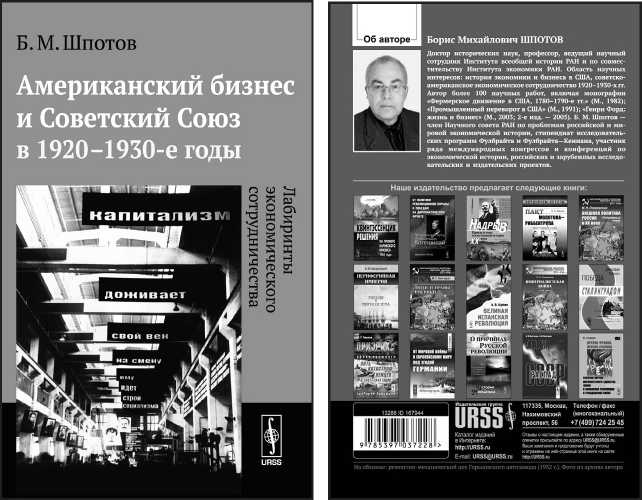
капиталистическим миром, но оно шло непростым путем.
Лабиринты экономического сотрудничества начинались с концессий. Глава 1 книги посвящена положению иностранных концессий в СССР [6, с. 27–58], глава 2 – наиболее крупным американским концессиям, в том числе предприятию У. А. Гарримана «Грузинский марганец» [6, 59–92]. Советское государство, не пересматривая в одностороннем порядке договоры с зарубежными инвесторами, произвольно затрудняло условия их хозяйственной деятельности. Например, ограничивало доступность сырья и кредитов, задерживало обмен Госбанком рублевой прибыли на валюту для перевода за рубеж, сталкивало профсоюзы с администрацией, и т. д. Смысл этой политики – вынудить концессионера расторгнуть договор досрочно, в одностороннем порядке, ценой потери инвестиций.
Обусловленные договорами суммы требовалось переводить в советские банки в твердой валюте, которая обменивалась на рубли по искусственно заниженному, нерыночному курсу. Это вынуждало соискателей переплачивать. Договоры заключались на длительный срок, часто свыше 15 лет, чтобы заинтересовать концессионеров суммой прибыли, но большие концессии с полностью иностранным (не смешан- ным) капиталом работали в среднем от трех до пяти лет. После выполнения концессионерами основных работ советское государство старалось отобрать предприятия и вложенный капитал, чтобы сократить время работы капиталистов «на себя». После отказа от нэпа, частью которого являлись концессии, сталинское руководство приступило к их поэтапной ликвидации. Форсированная индустриализация и пятилетние планы не предусматривали предприятий с иностранным капиталом, для которых требовалась определенная свобода рыночного маневрирования.
В отечественной литературе присутствует вывод о незначительной экономической роли концессий, основанный на данных Наркомфина. В конце 1927 г. в обрабатывающую промышленность было вложено 7 млрд 878 млн руб., из которых капитал концессионеров составил 45,3 млн, или 0,57 %, что, казалось бы, говорит о незначительной роли концессий. Но, во-первых, это было время окончания нэпа, когда приговор им был вынесен на самом высоком уровне – с трибуны XV съезда ВКП(б) в декабре 1927 г. Во-вторых, среди концессий были не только мелкие предприятия, выпускавшие потребительские товары, но и народнохозяйственные объекты союзного значения.
Это механизированная золотодобыча (англо-американская концессия «Лена Голдфилдс»); добыча и обогащение марганцевой руды в Чиатури (Грузинская ССР) компанией У. А. Гарримана и свинцово-серебряные рудники «Тетюхе» с британским капиталом на Дальнем Востоке, известные на мировом рынке; шведские концессии ACEA и SKF по выпуску электромоторов и шарикоподшипников; московская карандашная фабрика американца А. Хаммера, впоследствии имени Сакко и Ванцетти, продукция которой сыграла видную роль в советской культурной революции и выходила за рубеж, и др. Государство получило передовые, хорошо работающие предприятия. Наконец, не следует забывать о роли концессий как источника валюты, которую негде было взять государственным заводам и фабрикам.
Что же побуждало иностранные компании участвовать в столь необычном и рискованном бизнесе? Надо полагать, что негативная информация доходила не до всех или не производила должного впечатления. Международных рейтинговых агентств тогда не существовало. Правительство США в июле 1920 г. разрешило американцам коммерческие сделки с советской Россией на свой страх и риск, а в последующие годы американские компании «прорубали окно» в Европу и в СССР, выходя на новые рынки. Советская власть не казалась им серьезным препятствием для бизнеса, поскольку исключительно богатая природными ресурсами страна находилась в трудном положении, а «комиссары» не походили на коммерсантов. Крупные фирмы вкладывали в советские концессии лишь часть свободного капитала, а каждый концессионер был уверен, что у него дела пойдут лучше, чем у других предпринимателей или у «красных». Оставалась надежда и на то, что советские законы смягчатся или их удастся обойти. Но иностранные предприниматели недооценили способность советской власти использовать с выгодой для себя как заключение концессионных договоров, так и их расторжение [6, c. 58].
В главе 3 «Американский путь индустриального развития» показано, как и почему в конце XIX – начале ХХ столетия в США появились индустриальные гиганты, которых не было в Западной Европе и которые так понравились большевикам, что они сделали строительство подобных предприятий в СССР главной задачей первых пятилеток [6, c. 93–132].
В главах 4–6 рассмотрены народнохозяйственные отрасли, где участие США в форме технической помощи было практически стопроцентным. Это нефтяная, автомобильная, тракторная промышленность и новый метод проектирования промышленных зданий, внедренный компанией Альберта Кана в США, а затем в СССР [6, c. 133–268]. Рассмотрено также создание, с американским участием, крупнейшей в Европе Днепровской ГЭС и Магнитогорского металлургического комбината, сопоставимого по производительности с американским сталелитейным комбинатом в штате Индиана. В других отраслях, например в электротехнике, телефонной связи, черной и цветной металлургии, применялся, наряду с американским, опыт европейских стран, в первую очередь Германии. При всех политических, экономических и социально-культурных различиях критерии народно-хозяйственного прогресса в социалистической и капиталистической системах в индустриальную эпоху во многом совпадали. Это рост и диверсификация материального производства, научно-техническое обеспечение производственных процессов, укрепление экономической основы безопасности и обороноспособности [1, c. 375].
Техническая помощь 1930-х гг., как и концессии 1920-х – исторические разновидности государственно-частного партнерства (ГЧП). Традиционная интерпретация разделяет нэповскую (с элементами рынка) и «чисто социалистическую» экономику, тогда как использование понятия ГЧП – разумеется, в историческом контексте – позволяет связать инвестиционный период иностранного бизнеса в СССР с периодом закупки зарубежных технологий в следующем десятилетии. Это расширяет представление об экономических контактах двух систем, которые не прервались с ликвидацией нэпа. Но реальный процесс то и дело наталкивался, с советской стороны, на финансовые, организационные и иные трудности.
Платные услуги иностранных компаний – это выполнение по советским заказам проектов заводов, фабрик, других предприятий, консультирование, принятие оговоренного числа советских практикантов, поставки оборудования и помощь в пуске объектов. Мотивация фирм – возможность заработать прибыль относительно простым способом, продажей своих ноу-хау, не рискуя капиталом. Однако нехватка у СССР золотовалютной наличности, обнаружившаяся в 1930–1931 гг., на пике заключения контрактов, привела к временному прекращению сотрудничества, особенно с американскими фирмами, не предоставлявшими долгосрочного кредита.
Сделки возобновились во второй половине 1930-х гг. в связи с ростом добычи золота, оживлением внешней торговли и появлением у советской промышленности новых, технически сложных задач, в том числе связанных с развитием ВПК. Это позволило сократить объем техпомощи, сделав ее более адресной. Однако в конце 1939 г. правительство США ввело по политическим причинам («зимняя война» с Финляндией) эмбарго на продажу СССР военных кораблей и самолетов, аппаратуры для получения высокооктанового бензина и ряда товаров двойного назначения. Эти санкции были отменены в начале Великой Отечественной войны, когда Советский Союз стал получать помощь по ленд-лизу.
В ходе преобразований может возникать эффект синергии от сложения факторов, усиливающих друг друга, либо, наоборот, эффект торможения, когда чем больше прилагается усилий, тем медленнее продвижение вперед, а искомый результат все больше отдаляется. Бывает и «бег на месте», взаимное гашение перемен. К тормозящим факторам относятся так называемые инсти- туциональные ловушки. Это неэффективная устойчивая норма, или неэффективный самоподдерживающийся институт. Суть явления в следующем: изменение какого-либо института вне связи с трансформацией других создает тупиковую или весьма трудную общую ситуацию, ибо в экономике все взаимосвязано [5].
Подобные явления наблюдались и в ходе сталинской индустриализации. «Входом» в институциональную ловушку стали наблюдения советских специалистов за работой крупных предприятий в США, безоговорочное восхищение и желание воспроизвести их в СССР, кроме, конечно, таких явно «капиталистических» черт, как фордовская «потогонная система» и работа в три смены. Однако экономические результаты этих заимствований оказались неоднозначными.
У модернизируемой нефтяной, автомобильной, тракторной промышленности и проектно-строительного дела не было концессионного периода. В нефтяной индустрии имелся значительный дореволюционный потенциал, в ней продолжали работать крупные специалисты, но ее требовалось реконструировать на основе ушедших вперед американских технологий добычи и переработки нефти и транспортировки нефтепродуктов по магистральным трубопроводам из бакинско-грозненского района. Часть задач удалось решить путем обмена специалистами, но техническая помощь вскоре потребовалась для освоения новых месторождений в Башкирии, а также получения необходимого для военной авиации высокооктанового бензина. Из-за американских санкций последнюю задачу не удалось решить и перед началом Великой Отечественной войны.
Автотракторная промышленность, как называлась в СССР эта отрасль, которой предназначалась в основном хозяйственная роль, начиналась практически с нуля. Приходилось преодолевать трудности, связанные с внедрением конвейерной сборки, и получением комплектующих из США. Снабжение сдерживалось нехваткой валюты, а затем недополучением качественных материалов от отечественных смежников и собственных цехов. Вхождение производства в плановый режим задержалось не менее чем на два-три года. Правда, первоначальные планы ежемесячно пересматривались «в рабочем порядке» в сторону уменьшения. В 1936 г. совокупная продукция всех автозаводов страны (136 тыс. автомашин) достигла объема производства, запроектированного для ГАЗа [7, с. 160].
Быстрее шел процесс обучения советских зодчих новаторским приемам проектирования типовых промышленных зданий различного назначения специалистами компании А. Кана. В СССР индивидуальное архитектурное творчество в середине 1930-х гг. стало уступать место бригадной организации труда и упрощению чертежнокопировальной работы, а трудоемкие расчеты отдельных конструкций сменила каталогизация частей зданий и строительных материалов по американским образцам, что легло в основу государственных строительных стандартов (ГОСТов). Без этого не была бы решена задача продвижения промышленности на восток страны, в новые районы.
В компаниях США функции производства, снабжения, сбыта, как и связи с кредитными учреждениями, собственными филиалами, партнерскими фирмами и потребителями развивались системно и органично, от простого к сложному. В СССР процесс пошел в обратном направлении. Промышленные новостройки не успевали получать поставки от смежников, достраивать транспортные пути и местную инфраструктуру, готовить квалифицированные кадры. Эти задачи приходилось решать на межведомственном уровне, преодолевая бюрократические препоны [3, 4]. Возводить цеха, налаживать производство по готовым рецептам было в ряде отношений проще и быстрее, чем налаживать внешние связи. Это негативно сказывалось на пуске предприятий и достижении плановых показателей.
В главе 7 [6, с. 269–309] изучается нематериальный фактор, ощутимо повлиявший на экономический результат – это разница американской и русской деловых культур, мешавшая сработаться как в ходе стажировок на предприятиях США, так и на «великих стройках социализма» Это не только трудности согласования различных проектов и способов их выполнения, но и плохо скрываемое американцами недовольство условиями труда и быта в СССР, а иногда и критика советской системы [6, с. 298, 306].
С 1870 по 1929 г. наша страна занимала пятое место в мире по объему промышленного производства, а в 1930-е гг. переместилась на второе после США. С макроэкономической точки зрения это можно назвать «русским чудом». Хотя расчеты зависят от применяемых авторами методик, по совокупности общих показателей в 1930-е гг. Советский Союз опередил Германию и далеко оставил за собой Англию и Францию [6, с. 312, табл. 1, 2].
Советские хозяйственные руководители и специалисты утверждали, что своими силами не удалось бы столь же быстро создать предприятия, в которых нуждался Советский Союз. Даже теперь неясно, чем можно было заменить техпомощь. Однако импортная техника и технологии, доставленные в СССР, часто не находили адекватных условий для немедленного и эффективного применения. Сложилась ситуация, когда бурный рост капиталовложений и импорта техники одновременно по многим направлениям обусловил рост объема незавершенного строительства и не смонтированного оборудования.
Большое напряжение испытывал железнодорожный и водный транспорт, автомобильный только зарождался, а дорог с твердым покрытием не хватало. Решить проблему пытались, помимо административных мер и репрессий, с помощью дополнительных ассигнований и увеличения контингента рабочей силы. Это вело к потере эффективности за счет снижения средней выработки на одного человека и колоссальному удорожанию строек, что единодушно отмечали их советские и иностранные участники. Дорогостоящая импортная техника простаивала в цехах, накапливалась на «нулевых» складах, либо работала с неполной нагрузкой, из-за чего ее внедрение оборачивалось потерями и моральным старением.
В 1930–1933 гг. наблюдалось резкое обострение дефицита на ключевых объектах наиболее быстро создаваемых отраслей – машиностроительной (включая автотракторную), электротехнической, металлургической, а также на вспомогательных и смежных производствах. Налицо было временное снижение темпов строительства, сокращение работ на сданных в эксплуатацию предприятиях и откладывание пуска недостроенных. В централизованной плановой экономике, где все отрасли тесно связаны, обозначился в совокупности довольно широкий кризис. Начавшись в
1928–1929 гг., он возникал еще дважды за предвоенное десятилетие [2].
Соединенные Штаты стали поставщиком индустриальных технологий, а Советский Союз – их первым крупным покупателем в относительно стабильный межвоенный период. Заимствование технологий дало нашей стране немало положительного, включая модернизацию вооружений и победу в Великой Отечественной войне. Однако второй Японией СССР не стал. В условиях мобилизационной экономики производство не достигло конкурентоспособного качества и ориентировалось на емкий, но бесконкурентный и подчиненный целям государства внутренний рынок.
Список литературы Советско-американские экономические связи 1920-1930-х гг.: теоретические аспекты и уроки истории
- Бокарев Ю. П. СССР и становление постиндустриального общества на Западе, 1970-1980-е годы/Ю. П. Бокарев. -М.: Наука, 2007. -384 с.
- Ланкин М. А. Экономические циклы в предвоенной промышленности СССР/М. А. Ланкин//Экономическая история. Обозрение. -М.: Изд-во МГУ, 2011. -Вып. 15. -С. 46-85.
- Маркевич А. М. Была ли советская экономика плановой? Планирование в наркоматах в 1930-е гг./А. М. Маркевич//Экономическая история. Ежегодник. 2003. -М., 2004. -С. 20-54.
- Маркевич А. М. Отраслевые наркоматы и главки в системе управления советской экономикой в 1930-е гг./А. М. Маркевич//Экономическая история. Ежегодник. 2004. -М.,2004. -С. 118-140.
- Полтерович В. М. Институциональные ловушки и экономические реформы/В. М. Полтерович. -М.: Рос. экон. шк., 1998. -42 с.
- Шпотов Б. М. Американский бизнес и Советский Союз, 1920-1930-е годы: Лабиринты экономического сотрудничества/Б. М. Шпотов. -М.: ЛИБРОКОМ, 2013. -320 с.
- Шугуров Л. М. Автомобили России и СССР/Л. М. Шугуров. -М.: ИЛБИ, 1993. -Ч. 1. -255 с.
- Sutton A. C. Western Technology and Soviet Economic Development, 1917-1930/A. C. Sutton. -Stanford (CA), 1968. -381 p.
- Sutton A. C. Western Technology and Soviet Economic Development, 1930-1945/A. C. Sutton. -Stanford (CA), 1971. -401 p.