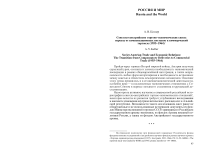Советско-австрийские торгово-экономические связи: переход от компенсационных поставок к коммерческой торговле (1955 - 1964)
Автор: Келлер А.В.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Россия и мир
Статья в выпуске: 1 (79), 2024 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - показать переход от компенсационных поставок Австрии Советскому Союзу к коммерческой торговле после Второй мировой войны. Несмотря на то, что геополитические факторы продолжали превалировать во многих внешнеполитических установках советского руководства, прагматичное понимание базовой важности экономики как основы всей политики диктовало необходимость интенсификации торгово-экономических связей с динамично развивающимся на тот момент ведущим экономическим регионом мира. В статье рассматривается «австрийский феномен», когда Австрийской республике, обретшей государственную независимость в 1955 г. взамен приобретения нейтрального статуса, удалось успешно выработать свою позицию в крайне непростом геополитическом раскладе сил, определявшемся двумя доминирующими социалистическим и капиталистическим блоками. В данном случае Советскому Союзу удалось максимально мобилизовать политические и общественные силы, симпатизировавшие ему. Особое внимание уделяется заключительному периоду правления Н. С. Хрущева (1960-1964 гг.), когда к власти в Австрии приходят более прозападные политики Австрийской народной партии, стремящиеся к тесной интеграции с Общим рынком Европейского экономического сообщества при одновременном балансировании между Восточным и Западным блоками. Анализируются коммуникативные практики на личностном уровне в рамках «восточного направления» внешней политики Австрии на основании документов российских и австрийских архивов. Автор приходит к выводу, что институциональные и структурные ограничения двух различных экономических и политических систем оказывали сдерживающее влияние на качественный рост торгово-экономических отношений между СССР и Австрией, что выражалось в отрицательном торговом сальдо и диспаритете в структуре торговли между ними.
Холодная война, мировая экономика, компенсационные поставки, международная торговля, плановая экономика, североатлантический альянс, восточный блок
Короткий адрес: https://sciup.org/149145597
IDR: 149145597 | DOI: 10.54770/20729286_2024_1_85
Текст научной статьи Советско-австрийские торгово-экономические связи: переход от компенсационных поставок к коммерческой торговле (1955 - 1964)
Soviet-Austrian Trade and Economic Relations:
The Transition from Compensatory Deliveries to Commercial Trade (1955-1964)
Пройдя через горнило Второй мировой войны, Австрия получила серьезный урок, осознала и усвоила необходимость экономической кооперации в рамках общеевропейской интеграции, а также неприемлемость любых форм авторитаризма и необходимость встроенных между властью и обществом демократических механизмов. Освоение этого урока проявилось и в ее внешнеэкономической деятельности, особенно ярко — в послевоенных экономических отношениях с Советским Союзом в период «позднего» сталинизма и хрущевской десталинизации.
Несмотря на активное изучение в современной российской историографии советско-австрийских торгово-экономических отношений1, некоторые аспекты их развития требуют углубленного исследования в контексте изменения внутриполитического расклада сил в Альпийской республике. Возможности такого исследования дают ранее не обнаруженные и не использованные историками документы из фондов Министерства внешней торговли СССР, хранящихся в Российском государственном архиве экономики, из фондов Архива внешней политики России, а также из фондов Австрийского государственного архива.
* * *
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Австрийского научного фонда в рамках научного проекта «Торгово-экономические отношения СССР с Австрией, 1955-1964» (№ 21-59-14006) = The reported study was funded by RFBR and FWF, project number 21-59-14006.
Москва не согласилась с послевоенным американским сценарием развития в Европе, за которым скрывалась явная политика «сдерживания» СССР, а интегративная концепция «плана Маршала» содержала плохо скрываемую антисоветскую и антикоммунистическую направленность. С одной стороны, интегративные проекты США в Европе получили обозначение «маршализации» или американизации Западной Европы, за которой скрывалась кроме экономической ее военная консолидация под эгидой НАТО, что приводило к тенденции сильной политизации вопросов европейской интеграции со стороны Москвы. С другой стороны, инициативы по интеграции Западной Европы и политические цели плана Маршала совпадали, идя рука об руку при создании экономических объединений: экономические инициативы «плана Шумана», по выражению Жана Моне, имплицитно предполагали конечную политическую интеграцию стран Западной и Центральной Европы, что не могло не приводить к конфликту с интересами стран СЭВ и Организации Варшавского договора, в которых развивалась «восточная модель» интеграции в условиях жесткой советизации2.
Австрия при данном политическом раскладе сил находилась в центре пересечения интересов обоих военно-политических и экономических блоков. Уже в 1948 г. страна стала членом Организации европейского экономического сотрудничества, в 1951 г. она присоединилась к Генеральному соглашению по тарифам, а в 1960 — к Европейской ассоциации свободной торговли, за которыми в 1961—1964 гг. последовала первая попытка расширения ЕЭС и новая фаза в развитии «Общего рынка». Также поступали альтернативные предложения от Ю. Рааба по созданию «Соединенных штатов Европы», в которых предлагалось допустить участие стран Восточного блока3.
После обретения Австрией независимости4, опасения в рядах СДПА чрезмерного сближении с СССР сменились готовностью к сотрудничеству. Даже такой закоренелый антикоммунист, как социалист Оскар Поллак, высказал пожелание, что и Советский Союз будет стремиться к укреплению политики мирного сосуществования, что можно назвать актом политического прагматизм в то время, когда политическое руководство ЕЭС с самого начала позиционировало себя не только как экономический, но и как военно-политический союз5.
Несмотря на активное участие Австрии в процессах европейской интеграции, экономической либерализации и усиления антикоммунистических настроений, страна сохраняла корректные и кооперативные отношения с Советским Союзом6. Это удавалось благодаря тому, что открыто проамериканских и антисоветских австрийских политиков уравновешивали, особенно в первое десятилетие после 1955 г., умеренные «консерваторы» во главе с Ю. Раабом, такие, например, как Леопольд Фигль (федеральный канцлер в 1945-1953 гг. и министр иностранных дел в 1953-1959 гг., АНП), в сотрудничестве с партнерами по коалиции, социал-демократами Адольфом Шерфом, Бруно 86
Крайским, Бруно Питтермананом7.
После 1955 г. активизируются официальные контакты Австрии с Советским Союзом. Эти годы австрийский вице-канцлер Б. Пит-терман назвал временем, когда «начался период хороших отношений между Австрией и Советским Союзом»8. Решающим, после временного охлаждения политических отношений в связи с кризисом 1956 г. в Венгрии, откуда в Австрию хлынул поток около 170 тыс. беженцев, и во время международной изоляции Советского Союза, оказался официальный визит в Австрию 23-28 апреля 1957 г. опытного переговорщика для таких специальных миссий А. И. Микояна. В июле 1958 г. и в октябре 1959 г. в составе правительственных делегаций СССР Австрию посетили с официальными визитами федеральный канцлер Ю. Рааб (1953-1961 гг.) и президент Австрии А. Шерф (1957-1965 гг.). 28 февраля 1959 г. подписан консульский договор, а 3 декабря 1960 г. — новое долгосрочное торговое соглашение на 1961-1965 гг.9
В справке о советско-австрийских отношениях от 24 марта 1965 г., направленной в МИД СССР, третий секретарь посольства СССР в Австрии А. П. Деев делил отношения двух стран на два периода: с апреля 1945 по май 1955 гг, когда Альпийская республика была оккупирована войсками союзников: СССР, США, Англии и Франции, и с мая 1955 по 1964 гг., когда был заключен Государственный договор и началось выполнение компенсационных поставок. Необходимо отметить, что последние выполнялись не только в результате политического давления бывших союзников и в особенности Советского Союза, использовавшего политику «нейтрализации» Австрии, но и по убеждению политического руководства самой Австрии, искавшей пути самостоятельного развития в условиях Холодной войны. Сложность несла в себе возможность широкой интерпретации нейтрального статуса страны10. Если отсутствие военных баз, предусмотренное Государственным договором 1955 г, вполне соответствовало представлению австрийской стороны о своем нейтральном статусе, то советская сторона допускала более широкую интерпретацию договора, предполагавшую также неприсоединение Австрии к любым экономическим ассоциациям в Европе, в том числе к Европейскому экономическому сообществу. По мнению советской стороны, «руководители Австрии проявили понимание сложившейся в то время обстановки и реалистически подошли к советским предложениям об основных положениях Государственного Договора, определившего последующее политическое развитие Австрии»11.
Согласно анализу А. П. Деева, в 1964 г. с приходом к руководству «правого крыла буржуазной “народной партии”» начался третий этап советско-австрийских отношений, характеризующийся попытками удержания Австрии в зависимости от советского внешнеполитического курса с поиском инструментов возможного давления на ее руководство. Во второй период с 1955 по 1961 гг. «во главе австрий- ского правительства продолжали оставаться умеренные круги АНП, возглавляемые Ю. Раабом, [но] правительство Ю. Рааба не было последовательным в проведении дружественного курса в отношении соцстран. Особенно эта непоследовательность проявилась во время известных событий в Венгрии. Не нашло понимания с его стороны обращение Советского правительства по актуальным международным вопросам (разоружение, берлинский вопрос и т.д.)»12. Видимо, на этом политическом фоне и происходило постепенное сокращение коммерческого товарооборота двух стран с 1960 по 1964 гг. со 115,8 млн. руб. до 109,2 млн. руб. (по другим источникам до 86), что меньше 5% внешнеторгового оборота Австрии с другими странами. Со всем Восточным блоком эта цифра составляла 15%, в то время как на долю стран ЕЭС в 1965 г. приходилось свыше 55% австрийского товарооборота13. По мнению советской стороны, «к 1960-1961 гг. в Народной партии (АНП) наметилась тенденция к ослаблению “умеренных” сил, группировавшихся вокруг Ю. Рааба, и усиление роли крайне правых элементов, выступающих за более тесное сотрудничество с западными державами и прежде всего с ФРГ. Прозападногерманские круги в стране добивались от правительства Рааба присоединения Австрии к Общему рынку. Колеблющаяся позиция в этом вопросе партнера АНП по коалиционному правительству Социалистической партии Австрии дало возможность правым силам активизировать деятельность и вынудить Рааба уйти в отставку с поста федерального канцлера. На его место был назначен А. Горбах, являвшейся переходной фигурой от умеренных к крайне правым силам в АНП. Новый канцлер, несмотря на дружеские предупреждения Советского правительства, предпринял конкретные шаги по вступлению Австрии в Общий рынок»14.
В частности, резкую отповедь советской стороны вызвало официальное обращение 12 декабря 1961 г. австрийского правительства «к президенту Совета министров ЕЭС с предложением начать переговоры о форме присоединения к этой организации. С этого времени советско-австрийские отношения вступили в период, характеризующийся борьбой Советского Союза против вступления Австрии в Общий рынок», что должно было обеспечить, по мнению советской стороны, «соблюдение ею положений Госдоговора и нейтрального статуса. Дипломатические акции советского правительства [...] приобретают в рамках советско-австрийских отношений с этого времени первостепенное значение. Они являются главным сдерживающим фактором в действиях Австрии по сближению с Общим рынком. Правительство А. Горбаха не могло не учитывать в своем внешнеполитическом курсе позиций Советского Союза. В силу внутренних и международных условий оно не смогло пойти на полное удовлетворение требований правых сил по форсированию переговоров с ЕЭС и было вынуждено проводить такой внешнеполитический курс, который создавал бы впечатление продолжения „линии Рааба“»15.
При этом в целом советско-австрийская торговля проходила до- вольно успешно, безболезненно преодолев прекращение компенсационных поставок в 1961 г. и удвоив коммерческий товарооборот. Определенное сдерживающее влияние на позицию Австрии в ее устремлении в Общий рынок оказали также беседы между А. Гор-бахом и руководителями советского правительства во время официального визита австрийской правительственной делегации в Москву летом 1962 г.: «В ходе переговоров его внимание было обращено на опасные последствия для Австрии в случае присоединения к Общему рынку Одновременно Горбаху было заявлено, что такой шаг мог бы разрушить основы советско-австрийских отношений и создать совершенно новое положение. После поездки в Москву в деятельности австрийского правительства стало больше проявляться стремление избегать обострений с Советским Союзом. Начатая Австрией в этот период демонстрация добрососедских отношений с Советским Союзом была направлена на то, чтобы предупредить с нашей стороны возможные меры против ее участия в Общем рынке. Эта линия продолжается и по сей день»16.
На самом деле, никакого антагонизма между некими «правыми», препятствующими укреплению связей с СССР, и «левыми» силами, «борющимися» за расширение и углубление этих связей, не существовало, но имелось желание, ввиду своего геополитического положения, нахождения компромисса в осуществлении движения по двум важным направлениям австрийской внешней политики в развитии экономических отношений как с Западом, так и с Востоком. Однако приоритетным все-таки оставалось сотрудничество с западными партнерами, поскольку в основе политики правящего блока АНП и СДПА с самого начала в краткосрочной и долгосрочной перспективах лежал курс на сближение и углубление экономических связей с европейскими партнерами. В этом смысле, настоящими и преданными внешнеполитическому курсу СССР, направленному на полное неприятие стран капиталистического Запада, оставались лишь австрийские коммунисты, изолированные в политической жизни Австрии.
В данном случае необходимо разделять два дискурса — австрийский и советский, различие которых заключалось в том, что последний пытался расколоть сторонников ЕЭС и поддержать противников европейской интеграции, то есть использовать разногласия среди политических оппонентов независимо от партийной принадлежности, с другой, оба дискурса предполагали нахождение консенсуса.
Смена второго периода советско-австрийских отношений на третий связана с более независимым курсом федерального канцлера Иозефа Клауса (1964-1970 гг.), означавшим стремление выйти из-под советской опеки, что было охарактеризовано советской стороной как «происки крайне правых сил»17. Хотя в одной из аналитических записок конца февраля 1965 г. «О внешней политике Австрии и советско-австрийских отношениях» о Клаусе говорилось, что тот «в отношении Советского Союза выступает за продолжение политики, которую про- водили Фигль, Рааб и Горбах, политики дружбы и откровенности»18. Согласно записке А. П. Деева, «в этот период появились серьезные трудности в торгово-экономических отношениях. Австрийская сторона занимает непоследовательную позицию в вопросах торговли с СССР, не проявляет большой заинтересованности в ее значительном расширении. Возникают трудности в реализации на австрийском рынке советских товаров»19.
Не все гладко шло и в отношениях с австрийскими социалистами, разочарование у которых вызвала неожиданная отмена в 1963 г. ответного визита А. И. Косыгина в Австрию по приглашению вице-канцлера Б. Питтермана (1957-1966 гг., председатель СДПА в 1957-1967 гг.), сделанного ему еще в 1962 г. во время пребывания последнего в Москве. По разным причинам не состоялись ответные визиты в Австрию министра внешней торговли Н. С. Патоличева и министра сельского хозяйства СССР М. А. Ольшанского (возможно в связи со снятием 24 апреля 1962 г. с должности и назначением К. Г. Пысина). По мнению советской стороны, дальнейшее развитие советско-австрийских отношений во многом зависело от степени сближения австрийских политических кругов с Общим рынком, противодействовать которому должны были ее ответные шаги по удержанию Австрии на позициях нейтралитета и Госдоговора в советском понимании, где внешнеполитическим целям подчинялись экономические, что означало проведение конкретных мероприятий по ослаблению в стране сил, выступающих за тесное сотрудничество с ЕЭС20.
Кроме конкуренции западных стран появился еще один существенный фактор в экономических отношениях Австрии с Западом. Благодаря активной политике экономического сотрудничества Советского Союза с Западной Европой пассивная позиция торговых палат стран Совета экономического взаимопомощи в отношении Австрии сменилась их сильно возросшей активностью, особенно румынской, югославской и венгерской. В Австрию стали одна за другой приезжать делегации из этих стран, что в свою очередь являлось следствием активизации политики ФРГ по открытию торговых представительств в этих странах21. Австрийская сторона с самого начала увидела в этом шанс стать посредником, учитывая ее огромный исторический опыт взаимодействия с восточноевропейскими народами, не обретшими еще свою независимость в рамках Австро-Венгерской империи. Поэтому для Ю. Рааба, как и других австрийских политических деятелей, было естественным позиционировать Австрию как «мост между Западом и Востоком», где ее нейтральный статус являлся «революционной новацией в политике», расширившей понятие нейтралитета. Пользуясь нейтральным статусом, Австрия «избегает оскорблений в адрес СССР»22, в то же время руководствуясь генеральной линией в своей внешней политике по сближению, экономической и политической интеграции с западными странами. Несмотря на антикоммунизм широких слоев населения и многих представителей правительства, существовало понимание необходимости учитывать интересы обеих сторон — Австрии и Советского Союза, — что представляло собой редкий акт прагматизма и балансирования между ориентацией и симпатиями к Западу и соблюдение интересов СССР23.
* * *
Экономические отношения двух стран в рассматриваемый период регулировались, с одной стороны, в рамках двух Соглашений от 12 июля 1955 года о поставках Советскому Союзу товаров в оплату имущества, переданного Советским Союзом Австрии, согласно пункту 6 статьи 22 Государственного договора, и о поставках нефти в оплату нефтяных предприятий, передаваемых Советским Союзом Австрии, подписанных в Москве24. С другой стороны — подписанными 17 октября 1955 г. в Вене «Договором о торговле и судоходстве», пятилетним «Долгосрочным соглашением о товарообороте и платежах» (1956-1960 гг.) и соглашением о платежах на этот же срок25.
Кредитный голод послевоенного времени в Европе и разрушенные торговые отношения, которые приходилось с трудом восстанавливать, создавали для Советского Союза, при наличии политической воли, благоприятные условия для расширения экономических связей с Западной Европой. Но запущенные с начала 1950-х гг. процессы интеграции европейских государств (25 июля 1952 г. вступил в силу договор о Европейском объединении угля и стали, в 1957 г. образовано Европейское экономическое сообщество), все больше затрагивали специфику советских внешнеторговых отношений, вынуждавших советскую сторону искать новые пути и форматы экономического сотрудничества с капиталистическим блоком государств.
Во время посещения австрийской промышленной выставки, проходившей в мае 1959 г. в Москве, Н. С. Хрущев высказал пожелание о максимальном расширении двусторонней торговли с Австрией. Советскую сторону интересовала прежде всего продукция синтетических материалов, поставки одежды и изделий текстильной промышленности. Советский руководитель уточнил специфику советской внешней торговли, базирующейся на принципе взаимных поставок, а А. И. Микоян пояснил, что торговый договор будет заключен при условии, если Австрия возьмет на себя обязательство принимать советские товары. Министр торговли и восстановления Фриц Бок высказался в пользу заключения регулярного торгового договора, но без исключительных правил для советской стороны, входящих в противоречие с правовым обязательствами Австрии по отношению к ее европейским партнерам26, а по возвращении в Вену подчеркнул, что Австрия следует принципам европейской торговли, предусматривающей отказ от ограничений объемов поставок и билатеральных торговых практик27.
Речь шла о клиринговой торговле, активно практиковавшейся в Европе особенно в первые два десятилетия после 1945 г. и вытеснявшейся в ходе либерализации более удобными правилами. Клиринг предусматривал товарооборот на паритетных началах, означавших равнозначный импорт и экспорт товаров и услуг между двумя или несколькими странами на основе взаимозачета. Валютой клиринга являлась счетная единица, эквивалентная доллару США. К примеру, к 1964 г. Австрия, по словам референта Федеральной Торгово-промышленной палаты Австрии Хайнриха, перешла в расчетах с Югославией, ставшей членом Европейского платежного союза, на базу свободной валюты с ликвидацией двустороннего клиринга. Он считал, что данный переход являлся преждевременным, поскольку плановая экономика Югославии при наличии государственного регулирования торговли не подчинялась законам свободного рынка, а значит, по его мнению, многосторонние расчеты являлись формальностью. По его мнению, следовало лишь увеличить процент конвертируемости клиринга с 20 до 50%. Данное предложение могло быть распространено на Югославию, Венгрию и Чехословакию, не использовавшими в полной мере уже имевшиеся у них лицензии на импорт товаров в Австрию, что в полной мере относилось и к договоренности Венгрии с Францией о расчетах в свободной валюте. Однако «преобладал обмен закрытыми письмами, согласно которых стороны обязались использовать вырученные суммы преимущественно в этих странах. Югославы ставят сейчас вопрос о полной либерализации экспорта товаров в Австрию, однако и предоставленную либерализацию не используют. Чехи тоже ставят упорно вопрос о либерализации, однако практически не было случая отказа [..]. Он лично не думает, что либерализация или многосторонние расчеты приведут к расширению торговли Австрии с этими странами. Он убежден, что билатеральная база торговли выгодна Австрии. Большую пользу могло бы оказать широкое предоставление кредитов, чего Австрия в силу слабого развития кредитной системы сделать не может»28. Согласно справке А. П. Деева, «австрийское правительство, принимая во внимание заинтересованность национализированной промышленности и некоторых деловых кругов в сохранении деловых связей с соцстра-нами на случай спада конъюнктуры на мировом рынке и возможных осложнений при вступлении в ЕЭС, вынуждено идти на сохранение или даже на некоторое расширение торговли с ними»29.
Сложности для австрийской стороны в налаживании и поддержании экономического взаимодействия с советской стороной заключались в большом количестве советских учреждений, включая 21 «Всесоюзное объединение», представлявшие из себя внешнеторговые организации по отраслевому признаку, с не всегда ясными зонами их ответственности и компетенций, плановом характере советской экономики, осложнявшим внешнеторговые отношения.
К примеру, член правления контролируемого коммунистами «Австрийского бюро Восток-Запад», инженер Александр Фукс, нахо- дился с 6 по 16 января 1956 г. в Москве в качестве представителя австрийской текстильной промышленности для проведения переговоров с В/О «Экспортлён» по закупкам советского хлопка, предусмотренным австрийско-советским торговым договором. Речь шла о контингенте в 4 000 т, который невозможно было осуществить одной поставкой. Причиной тому стало предложение со стороны В/О «Экспортлён» выставить фиксированные цены на хлопок на весь 1956 г. всего двух сортов: 75% первого сорта и 25% второго сорта. Стороны договорились лишь о поставке 1 300 т по фиксированным ценам до сентября 1956 г., тогда как опция по продаже 4 000 т закончилась 26 января 1956 г. Для австрийской текстильной промышленности было бы слишком рискованным согласиться на фиксированные цены уже в январе до конца 1956 г., поскольку нельзя знать цен на мировом рынке на хлопок нового урожая, собираемого в августе и сентябре30.
К этому добавлялись трудности внутриполитического, структурного и технического характера. Согласно записке Н. С. Хрущева в Президиум ЦК КПСС по вопросам науки (не ранее 12 апреля 1963 г.), «намечаемые [..] мероприятия по созданию и внедрению новой техники, как правило, выполняются не более чем на 70—80%»31. Это касалось, в частности, изготовления «новых видов каучуков, превосходящих по ряду своих качеств натуральные каучуки, кислородно-конверторный способ производства стали.. ,»32, предполагавший внедрение способа непрерывной разливки стали. Уже ранее, 5 марта 1963 г., последовало согласие металлургического комбината «Фёст» (VOEST) на поставку кислородно-конвертерного оборудования для Новолипецкого металлургического завода стоимостью около 30 млн. руб.33, позволявшего по сравнению с мартеновскими печами уменьшить время плавки стали с восьми часов до 40 минут34.
И все же, несмотря на значительный рост производства и импорта, ахиллесовой пятой плановой экономики являлось недостаточное производство потребительских товаров, приводивших к их хроническому дефициту, с которым Советская власть не смогла справиться за все время своего существования. Данный перекос неизменно существовал вследствие изначальной идеологической установки на приоритетное развитие безусловно важных транспортной инфраструктуры, энергетической системы, группы А тяжелой промышленности и ВПК, но не товаров народного потребления. Так, «только в одном 1934 году на строительство метро было затрачено 350 миллионов рублей (при 300 миллионах, затраченных на производство товаров народного потребления за всю первую пятилетку)»35. Руководители высшего и среднего уровня управления неохотно включали те или иные австрийские потребительские товары при формировании товарных списков.
Касаясь коммуникативной стороны, стиль переговоров стал более конструктивным, рутинным, что сказывалось на более коротком времени их проведения по сравнению с 1955 г. Особенно благоприятно это сказалось на переходе к преимущественно коммерческому 93
товарообороту после 1961 г., по завершении основного объема компенсационных поставок. Для сравнения, в 1955-1957 гг. общий товарооборот между Советским Союзом и Австрией увеличился почти в пять раз с 38,3 млн. руб. до 181,7 млн. руб.36 Из Австрии в основном поставлялись машины и оборудование, прокат черных металлов, склады металлические, трос, арматура и фитинги, фанера ножевая, из Советского Союза — зерновые, каменный уголь, кокс, хлопок, трубы нефтяного сортамента. Примерно такое же соотношение с отрицательным балансом в пользу Австрии и схожим сортаментом оставалось в 1960-е гг.37
Посмотрим, как проходили переговоры двух делегаций на протяжении 1963 и 1964 гг., и какую долю в общем объеме билатеральной торговли занимали потребительские товары. 16 декабря 1963 г. переговоры по протоколу поставок и контингентам товаров на 1964 г. проходили уже в рамках коммерческой торговли. Задача советской делегации, представленной заместителем начальника Управления торговли с западными странами Министерства внешней торговли СССР К. Г. Третьяковым, и Марке со своими коллегами с австрийской стороны, заключалась в комплексном согласовании всех товаров в двух таблицах. По заявлению Третьякова, советской делегацией были с деланы-предложения, касающиеся «как австрийского экспорта, так и импорта, и взаимно увязаны между собой»38.
В ходе подготовки к переговорам, заместитель председателя В/О «Союзпромэкспорт» Николаенко провел в Линце переговоры с фирмой «Фёст» по закупке ею 500 тыс. т контингента советской железной руды. В свою очередь каждый контингент товаров уравновешивался встречными поставками. Поэтому Третьяков тут же связался с Москвой, которая положительно рассмотрела вопрос по увеличению контингента по прокату, в результате чего в списки товаров было включено ПО тыс. т проката черных металлов от фирмы «Фёст». Кроме того, советская сторона согласилась дополнительно увеличить поставки из Австрии: до 3,33 млн. долларов США контингента по кабелю и кабельным изделиям, до 250 тыс. долларов США по племенному скоту, а также включить 1,5 млн. м2 контингента по ножевой фанере, согласившись со своей стороны увеличить поставки в Австрию алюминия с 1 тыс. т до 2 тыс. т и цинка с 4 тыс. т до 8 тыс. т. Марке поблагодарил советскую делегацию за усилия, добавив, однако, что та не вполне учла ряд предложений австрийской стороны по экспорту в СССР серебрянки, качественных сталей, медного проката, шерстяных тканей, конденсаторной бумаги, верхней кожи, инструмента, компрессоров, запчастей для энергосиловых установок, оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности, колодочно-каблучных станков, установок по обессоливанию нефти, гидропередач, судов и ремонта судов39.
В отношении контингента по свинцу Марке сказал, что сомневается в реальности поставки 2 тыс. т, поскольку австрийский экспорт кабеля в СССР сокращается более чем на 2 млн. долларов США. При опциональных позициях в графе напротив такого товара ставилась пометка «для памяти», как это было сделано с обычными бензином и серой. Напротив, бензин-сырец первичной гонки помечен «с определенным количеством». Марке повторил предложение по калийным солям 40-60% К2О по выбору австрийской стороны с контингентом в 800 тыс. долларов США. Также он обещал, «что австрийская сторона изучит вопрос о включении в список советских товаров цемента и оконного стекла, однако она должна предупредить, что шансы на положительное решение очень малые»40.
4 июня 1964 г. представитель торговой фирмы Карл Писец заявил в разговоре с заместителем начальника Отдела Центральной Европы Антиповым, «что после долгих усилий ему впервые удалось получить импортную лицензию на ввоз из СССР оконного стекла на сумму 25 тыс. [долларов США], однако лишь в рамках, предусмотренных торговым соглашением контингентов об обмене потребительскими товарами сторон. По словам Писеца, в ответ на его предложение закупить стекло против поставки австрийского ширпотреба В/О «Раз-ноэкспорт» сообщило, что не имеет соответствующего разрешения на продажу стекла в обмен на ширпотреб. Песец просил содействия в осуществлении этой товарообменной сделки. Тов. Антипов сказал, что поинтересуется данным вопросом», что показывает парадоксальную ситуацию, когда просьба советской делегации не могла быть удовлетворена по причине отказа советской же внешнеторговой организации41.
При обсуждении «австрийского экспорта сельскохозяйственных продуктов, Марке, а затем, Дорфвирт поблагодарили за увеличение контингента по племенному скоту, однако отметили, что этот контингент не достигает уровня, предусмотренного долгосрочным соглашением, и просили Третьякова по приезде в Москву проинформировать соответствующие организации о заинтересованности Австрии в увеличении запродаж скота в Советский Союз, по крайней мере, до объемов, предусмотренных долгосрочным соглашением»42.
Третьяков обещал сделать это, но предупредил, «что он ничего не может обещать относительно положительного решения этого вопроса. По сыру и сухому молоку Дорфвирт выразил разочарование отказом установить самостоятельный контингент и еще раз поставил вопрос о том, чтобы предусмотреть по этим товарам отдельный контингент в размере 500 тыс. долларов» США43. Это еще раз показало недостаточное внимание советской стороны к устранению разбалансированности общего товарооборота с помощью увеличения доли товаров народного потребления ввиду большего фокусирования внимания советского руководства на решении геополитических задач, что неизбежно вело к пренебрежительному отношению к «ширпотребу», а соответственно и к нежеланию увеличивать позиции по продукции сельского хозяйства и товарам народного потребления.
По ряду товаров Третьяков внес предложения австрийской стороне по поставкам медных и никелевых лент (1 650 тыс. долларов США) и потребительских товаров (трикотаж шерстяной верхний, трикотаж хлопчато-бумажный нижний, швейные изделия, молочные продукты) «в обмен на советский ширпотреб» (55 тыс. долларов США), заметив при этом, что «сумму по потребительским товарам в обоих списках можно было бы и не указывать, если, по мнению австрийской делегации, ее включение можно истолковать, как намерение ограничить обмен ширпотребом»44. Также включалось различное оборудование (100 тыс. долларов США), 6 тыс. т штапельного волокна и 2 тыс. т каустической соды. В советские поставки включались каменный уголь и антрацит, объединенные в одном контингенте, с их возможным увеличением до 910 тыс. т, а также 26 тыс. т калийной соли45. Потребительские товары включали фотоаппараты, часы, швейные машины, спортивные ружья, водку, мед и другие. В связи с позицией по водке в списке советского экспорта Марке просил оставить среди их потребительских товаров вино, на что Третьяков согласился. Одновременно Марке отказался от упоминания шляп в их ширпотребе46.
Во время переговоров Марке должен был отлучиться на четверть часа для подписания торгового соглашения с японской делегацией, предоставив слово Фельблю. Видимо, советская сторона воспользовалась его отсутствием, чтобы вновь завести разговор о поставках советского бензина, после чего Фельбль повторил предложение Марке, на что «Третьяков сказал, что исключение из протокола бензина означало бы необходимость сокращения и австрийских поставок», предложив записать бензин без дальнейшей его расшифровки. Фельбль пообещал рассмотреть этот вопрос дополнительно. Он согласился с предложением советской стороны по каменному углю и антрациту, но оставил за собой ответ по железной руде и свинцу, назвав максимальное количество мазута в 30 тыс. т, на что Арутюнов сообщил, что имеются запросы на 80-90 тыс. т, после чего Фельбль обещал дополнительно изучить этот вопрос. По просьбе Дорфвирта была записана позиция по калийным солям на 800 тыс. долларов США или хотя бы 600 тыс. долларов США с возможным увеличением. Третьяков подтвердил, «что это предложение, как и другие австрийские пожелания, сообщалось в Москву. В условиях резкого роста внутренних потребностей в удобрениях в СССР нет возможности сейчас увеличить поставки калийных солей в Австрию. Просил учесть, что Австрия единственная страна, куда будет экспортироваться этот товар»47, после чего Фельбль принял его предложение.
После согласия обеих сторон все измененные позиции должны были согласовываться, что требовало дополнительного времени: «Третьяков спросил, нельзя ли получить ответ сегодня во второй половине дня хотя бы по ряду открытых вопросов. Марке сказал, что им потребуется обсудить в своей делегации новые [...] предложения, и просил следующую встречу провести завтра. При готовности к ком- 96
промиссу обеих сторон и в режиме наибольшего благоприятствования получил свое согласование вопрос по пушнине с контингентом в 1220 тыс. долларов США. Фельбль выразил согласие с увеличением суммы по позиции «разные товары» за счет роста поставок цинка и алюминия, заметив при этом, что он сомневается в возможности поставок последнего в Австрию, поскольку ему известно, что «между советскими организациями и канадцами есть соглашение о прекращении советских поставок алюминия в Западную Европу»48. В этой связи Третьяков подтвердил возможность поставки алюминия в Австрию. В каком сжатом временном графике делегациям приходилось работать, говорит просьба Третьякова, уточнившего, «что мы хотели бы подписать протокол в среду, 18 декабря, или, в крайнем случае, утром 19 декабря»49.
Не всегда могла удовлетворить пожелания советской стороны в отношении потребительских товаров и Австрия. К примеру, Фельбль сказал, что необходимо «проверить возможность включения спортивных ружей в позицию „потребительские товары“ списка советских поставок». Перейдя к вопросам австрийского экспорта, Фельбль заверил советских партнеров, что он «детально обсуждал с фирмой [..] возможности поставки [штапельного волокна] в СССР и вновь просит не записывать более 4 тыс. т.»50. Было сказано, что в отличие от переговоров по спискам товаров «на 1963 год у австрийской стороны нет принципиальных соображений против поставки 6 тыс. т из-за состояния клиринга. Но реально может быть предложено только 4 тыс. т, [поскольку] уменьшение заявки на 2 тыс. т компенсировало бы исключение из советского экспорта 40 тыс. т бензина», на что Третьяков возразил, что речь шла об увязке «советских предложений во всем их списке. Штапельное же волокно не является тем товаром, который увязывается с бензином. Просил снять возражения против контингента в 6 тыс. т. Вопрос остался открытым»51.
Возвратившийся на заседание Марке, попросил сделать по поставкам австрийских кож хотя бы пометку «для памяти», заявив, что по любому советскому товару готов на такую запись. В свою очередь Третьяков обещал вновь направить запрос в Москву ввиду настоятельных просьб австрийцев: «По племенному скоту Дорфвирт заявил, что готов удовлетвориться контингентом в 250 тыс. долларов США, если советская делегация заверит, что, вернувшись в Москву, будет просить компетентные организации закупать скот и сверх контингента»52. На это Третьяков сказал, что доведет до сведения МВТ и Министерства сельского хозяйства СССР эту просьбу и подчеркнет важность, которую придает австрийская сторона этой позиции, но не уверен в результативности этих шагов», поскольку согласовали контингент в сумме 250 тыс. долларов США. Продолжая эту тему, «Дорфвирт выразил удовлетворение в том, что в настоящих переговорах речь идет о молочных продуктах, а не только о сыре. Но упоминание этих товаров среди потребительских товаров их весьма разочаровывает, так как по опыту прошлых лет это означает, что советские организации их не купят. Поэтому они настоятельно просят отдельного контингента. В обоснование своего предложения Дорф-вирт отметил, что в недавнем соглашении с одной западной страной СССР включил по импорту контингенты по сыру и сухому молоку. Тов. Третьяков сказал, что, по его мнению, ссылки на нашу торговлю с другими странами не могут являться убедительным аргументом для включения в советско-австрийский протокол тех или иных товаров. Структура торговли СССР с различными странами не может быть одинаковой в силу специфических особенностей стран-партнеров. Так, если говорить о нашей торговле с той страной, которую имеет в виду г. Дорфвирт, то необходимо прежде всего отметить, что номенклатура нашего импорта из этой страны значительно уже, чем из Австрии, из которой мы импортируем широкий ассортимент промышленных изделий, машин и оборудования»53.
Настоятельные просьбы австрийской стороны и усиленное продвижение продукции сельского хозяйства, составлявшей 12% валового продукта страны, объяснялись той важной ролью, которая ей отводилась. Тем не менее, по заверению Третьякова, предстояли согласования в Москве. При положительном решении этого вопроса, советских потребителей должно было порадовать включение по просьбе австрийской стороны в экспорт среди потребительских товаров мебели и спортинвентаря54. Далее Марке попросил упомянуть в позиции «разные товары» списка их поставок семенной материал, а Дорфвирт подчеркнул в свою очередь, что «включению лошадей в список советского экспорта всегда корреспондировало упоминание семенного материала в списке их поставок»55.
Такие переговоры походили скорее на бюрократический торг, чем на прямую торговлю, поэтому «коммерческим» такой товарооборот с партнером, существующим в условиях централизованной плановой экономики, можно назвать лишь условно. Специфика работы советской внешней торговли хорошо видна на примере фирмы «Герц». Поскольку она не смогла предложить в 1964 г. В/О «Машприборинторг» необходимые комитенту (заказчику) приборы, ее советские заказы сократились в 1964 г. по сравнению с прошлыми годами на две трети, хотя фирма «ориентировалась в своем производстве на прежний уровень заказов. Контингент по контрольно-измерительным приборам Протокола о взаимных поставках 1964 года был уже использован, но в счет него закуплены в основном приборы неавстрийского производства»56. Далее последовали ожидаемые шаги фирмы, обратившейся с просьбой в австрийское Министерство торговли, оказать содействие в получении новых советских заказов, после чего было поручено направить письмо в Министерство внешней торговли СССР. Для зондирования почвы торговый атташе посольства Австрии в Москве В. Вольфсбергер встретился с начальником отдела Центральной Европы Управления торговли с западными странами Ю. В. Балодом, ответившим ему, что «всесоюзные объединения закупают товары по заявкам своих комитентов и, насколько нам известно, фирма „Герц“ не смогла предложить в 1964 году В/О „Машприборинторг“ необходимые комитенту приборы»57. Во время беседы 5 августа 1964 г. с Ба-лодом Вольфсбергер подкрепил свою просьбу относительно фирмы «Герц», заверив его, что новый посол Австрии в СССР Вальтер Водак (1964-1970 гг.), приступивший к своим обязанностям 7 июля 1964 г., «проявляет большой интерес к вопросам экономических отношений с СССР» и после своего возвращения из Австрии, куда он выезжает в ближайшее время в отпуск, нанесет визиты в Минвнешторг58.
Работа по дипломатическим каналам в целях обеспечения и поддержки торгово-экономических отношений видны и на других примерах. 17 января 1964 г. на встрече Ю. В. Бал ода с В. Вольфсбергером обсуждались вопросы проведения выставок и получения австрийскими фирмами различных заказов. Атташе сообщил о заинтересованности фирм «Штрагер», «Биндер», «Сименс» и «Крассо» в участии в Международной выставке строительно-дорожных машин и средств механизации строительно-монтажных работ, которая должна была состояться в августе 1964 г. Вольфсбергер сообщил также, «что фирма Рейхерт и ряд других фирм, выпускающих изделия точной механики и оптики, намереваются организовать небольшую передвижную выставку своей продукции в Москве, Ленинграде, Киеве и Новосибирске, сопроводив [ее] лекциями австрийских специалистов»59. На следующей встрече с Балодом 26 февраля Вольфсбергер передал для сведения копию своего письма от 25 февраля 1964 г. на имя начальника Отдела иностранных выставок К. И. Смольянова во Внешнеторговой палате СССР (ВТП), «в которой со ссылкой на успех австрийской выставки приборов и машинного оборудования в Москве в 1963 году ставится вопрос об организации аналогичной выставки в Ленинграде весной 1965 года»60. В письме Вольфсбергер сообщал, что выставка, состоявшаяся осенью 1963 г., «была признана большей частью австрийских участников очень удачной. Удовлетворенность организацией и ходом выставки явилось стимулом для желания организовать подобную выставку не позднее весны следующего года в Ленинграде». Однако после того, как ВТП «отсоветовала из-за отсутствия помещений запланированную поездку с целью проведения выставок в Новосибирске и Свердловске австрийским фирмам измерительных приборов», последние «предпочли бы проведение выставки в большом размере в Ленинграде»61. При содействии ВТП специализированная австрийская выставка действительно состоялась там в 1965 г. За год до этого, 28 августа, на Международной выставке строительных машин в Лужниках проводился «Национальный день Австрии» с устройством пресс-конференции и протокольных мероприятий62. Этот опыт показывает, что специализированный выставки в Советском Союзе использовались Австрией как эффективный инструмент публичной дипломатии и развития экономических связей.
В августе 1964 г. продолжалась работа по подготовке переговоров по Протоколу о товарообороте на 1965 г., а также предварительных переговоров о долгосрочном торговом соглашении между СССР и Австрией на 1966-1970 гг., проведение которых было запланировано на начало ноября 1964 г.63 Примером прагматизма обеих сторон является беседа советника посольства СССР в Австрии В. Ф. Сычева со статс-секретарем Министерства торговли и восстановления Австрии Винценцом Котциной (АНП) 1 декабря 1964 г., уже после отстранения от власти Н. С. Хрущева. Из записки Сычева следует, что на одном из приемов в советском посольстве Котцина по собственной инициативе «поднял вопрос о трудностях в советско-австрийской торговле и проводимой советскими внешнеторговыми организациями политике в отношении нейтральной Австрии, которую он назвал по меньшей мере непонятной»64.
Котцина имел ввиду информацию, полученную в регулярных докладах В. Вольфсбергера правительству и австрийской ТПП «о заключаемых советскими внешнеторговыми организациями крупных сделках с Францией, Англией, ФРГ и др. западными странами и усилившейся конкуренции этих стран на советском рынке, отрицательно сказывающейся на состояние советско-австрийской торговли»65. Среди факторов, негативно сказывавшихся на советско-австрийской торговле, называлась невозможность кредитовать торговлю с Советским Союзом за неимением свободных капиталов, в то время как западные державы предоставляли Советскому Союзу долгосрочные кредиты. Видимо с этим был связан спад в объемах советско-австрийской торговли в первой половине 1960-х гг., одной из причин которого являлось «предпочтительное отношение советских внешнеторговых организаций к странам НАТО и их нежелание развивать торговлю с нейтральной Австрией, [что, по мнению Котцины], фактически помогает сторонникам Общего рынка в Австрии и дает им в руки аргументы о невозможности развивать торговлю с Советским Союзом и неизбежности для Австрии искать стабильные рынки на Западе»66.
Идея была не новой, поскольку концепция Общего рынка была Австрии близка и знакома. Ведь предыстория европейской интеграции берет свое начало именно здесь, в Вене, где в 1922 г. австрийским философом Рихардом Куденхове-Калерги была основана первая организация, главной целью которой было объединение Европы во имя мира и процветания — Панъевропейский союз. На первом его конгрессе в 1926 г. состоялось примирение Франции и Германии, которое позже было восстановлено и закреплено Елисейским договором, подписанным 22 января 1963 гг. Конрадом Аденауэром и Шарлем де Голлем.
Котцина подчеркивал, что нельзя допустить сокращения торговли СССР с Австрией, когда «наметилась здоровая тенденция к развитию экономических связей с Советским Союзом и другими социалистическими странами в целях преодоления односторонней внешнеторговой юо зависимости Австрии от западных стран. Эта линия деловых кругов поддерживается также правящими кругами Австрии. Однако практика советских внешнеторговых организаций отдавать предпочтение в заказах странам НАТО вызывает непонимание в австрийских деловых и политических кругах, дружественно настроенных к СССР и выступающих за развитие отношений с СССР»67. Котцина использовал один из излюбленных аргументов советской стороны о недопустимости вступления Австрии в экономические и политические союзы с участием стран НАТО, прося «изыскать возможности для расширения товарооборота, учитывая изложенные выше политические мотивы» при заключении долгосрочного торгового соглашения с Австрией68.
Одной из причин очевидного ослабления динамики роста экономического сотрудничества двух стран могло быть окончание 11 апреля 1961 г. полномочий канцлера Ю. Рааба — «крайне симпатичного человека» по отзыву Н. С. Хрущева, в лице которого он нашел в 1955 г. первого западного лидера, с которым он мог «иметь дело». После существенных кадровых перестановок и смены поколений в аппарате федерального Министерства торговли и восстановления Австрии, а еще более после смещения Хрущева, австрийскому руководству не удалось установить такие же теплые отношения с Косыгиным, как это удалось финскому лидеру Урхо Кекконену69. Косвенное подтверждение этому находим в скептическом мнении референта Хайнриха в отношении новых министров от АНП в кабинете Клауса, высказанном 1 июня 1964 г. в разговоре с заместителем советского торгпреда в ВенеЮ. Н. Грачевым: «Это все новые, молодые люди, не имеющие достаточного жизненного и политического опыта. Они [... ] не участвовали активно при решении торгово-экономических проблем первых послевоенных лет»70.
Мнение Хайнриха подтверждалось падением советско-австрийского товарооборота со 111,2 млн. руб. в 1963 г. до 109,2 млн. руб. в 1964 г. (вспомним упомянутую выше фирму «Герц»), Снижение произошло в связи с тем, что советская сторона не смогла предложить для продажи в Австрии ряда товаров, ставших уже традиционными в советско-австрийской торговле, в том числе 100 тыс. тонн зерновых на сумму в 6 млн. долларов США71, когда усилились проблемы с падением урожаев зерновых на протяжении последних лет по причине повышенной эрозии целинных земель в Северном Казахстане. Чтобы переломить негативный тренд, стороны подписали в 1964 г. в Москве протокол на 1965 г., предусматривавший некоторое увеличение объема торговли между обеими странами с установленным лимитом взаимного кредитования на сумму 4,5 млн. руб. при клиринговой форме расчетов и платежей72. После существенного спада в 1964 г. (109,2/86), товарооборот вновь поднялся в 1965 г. до планируемых согласно расчетам торгпредства, до более 100 млн. долларов США австрийского экспорта и более 65 млн. долларов США советского экспорта, что в общей сложности составляло 165 млн. долларов США73, значительно превышая обороты 1950 г. и 1960 г. соответственно в 23,4 и пиковые 115,8 млн. долларов США74.
* * *
Подводя итог, можно сказать, что институциональные и структурные ограничения двух различных экономических и политических систем Австрии и Советского Союза оказывали сдерживающее влияние на качественный рост торгово-экономических отношений двух стран, что выражалось в отрицательном торговом сальдо и диспаритете в структуре торговли Советского Союза с Австрией. Преобладали поставки сырья и полуфабрикатов с уклоном на тяжелую промышленность при дефиците товаров широкого потребления, в увеличении экспорта которых была заинтересована Австрия.
В таких условиях можно считать успехом советской стороны, сумевшей трансформировать некоммерческие компенсационные поставки в двустороннюю рыночную торговлю, имевшую для Австрии перспективу открытия обширного восточного рынка социалистических стран для своих товаров, а особый австрийский культурный архетип облегчил Австрии ее роль посредника между Востоком и Западом.
Список литературы Советско-австрийские торгово-экономические связи: переход от компенсационных поставок к коммерческой торговле (1955 - 1964)
- МартхтецЮ. А. Советско-австрийские экономические отношения как проблема отечественной историографии // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2021. №4. С. 19-31.
- PachoinigN. Die österreichisch-sowjetischen Beziehungen in der Ära Chruschtschow (1955-1964): Diss. Klagenfurt, 2017. S. 53-54.
- Липкин M. А. Европейская интеграция и советские экономические инициативы (1950-е — первая половина 1970-х годов): По новым материалам российских и зарубежных архивов // Новая и новейшая история. 2009. № 3. С. 47-64; ЛипкинМ. А. Советский Союз и интеграционные процессы в Европе: середина 1940-х — конец 1960-х годов. Москва, 2016. С. 337, 360, 366.
- Павленко О. В., РуггенталерП. Советский Союз и путь Австрии к нейтралитету 1955 г. // Россия — Австрия: Вехи совместной истории. 2-е изд. Москва, 2019. С. 215-230; Штелъцлъ-Маркс Б., Павленко О. В., Безбородое А. Б. Красная Армия в Австрии в 1945-1955 гг. // Россия — Австрия: Вехи совместной истории. 2-е изд. Москва, 2019. С.185-214.
- PachoinigN. Die österreichisch-sowjetischen Beziehungen in der Ära Chruschtschow (1955-1964): Diss. Klagenfurt, 2017. S. 67, 69, 192.
- PachoinigN. Die österreichisch-sowjetischen Beziehungen in der Ära Chruschtschow (1955-1964): Diss. Klagenfurt, 2017. S. 247.
- PachoinigN. Die österreichisch-sowjetischen Beziehungen in der Ära Chruschtschow (1955-1964): Diss. Klagenfurt, 2017. S. 255-256.
- Chruschtschows Westpolitik 1955 bis 1964. Gespräche, Aufzeichnungen und Stellungnahmen. Bd. 2: Anfangsjahre der Berlin-Krise (Herbst 1958 bis Herbst 1960). München, 2015. S. 397.
- Архив внешней политики Российской Федерации. Ф. 66. Оп. 49. П. 237. Д. 7. Л. 15-16, 47-48.
- RentiertD. Wie Österreich die von Moskau verlangte Neutralität zu lieben lernte // Der Standard. 26. Oktober 2022.
- АВП РФ. Ф. 66. On. 49. П. 237. Д. 7. Л. 14; StourzhG Mueller W. Der Kampf um den Staatsvertrag 1945-1955: Ost-West-Besetzung, Staatsvertrag und Neutralität Österreichs. Wien, 2020.
- АВПРФ. Ф. 66. On. 49. П. 237. Д. 7. Л. 16.
- АВПРФ. Ф. 66. Оп. 49. П. 237. Д. 7. Л. 2, 18, 31.
- АВП РФ. Ф. 66. Оп. 49. П. 237. Д. 7. Л. 17-18.
- АВПРФ. Ф. 66. Оп. 49. П. 237. Д. 7. Л. 17.
- АВП РФ. Ф. 66. Оп. 49. П. 237. Д. 7. Л. 18.
- АВП РФ. Ф. 66. Оп. 49. П. 237. Д. 7. Л. 15-16.
- АВПРФ. Ф. 66. Оп. 49. П. 237. Д. 7. Л. 9.
- АВП РФ. Ф. 66. Оп. 49. П. 237. Д. 7. Л. 18.
- АВПРФ. Ф. 66. Оп. 49. П. 237. Д. 7. Л. 20.
- Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 413. Оп. 31. Д. 271. Л. 61.
- Austria's position between East and West. 27.10.1959 // Freedom of Information Act (FIOA). Central Intelligence Agency (CIA) / Special National Intelligence Estimate Number 25-29. P. 2. URL: https://www. foia.gov/
- PachoinigN. Die österreichisch-sowjetischen Beziehungen in der Ära Chruschtschow (1955-1964): Diss. Klagenfurt, 2017. S. 5-7.
- РГАЭ. Ф. 413. On. 37. Д. 118. Л. 1.
- АВПРФ. Ф. 66. On. 49. П. 237. Д. 7. Л. 16.
- Келлер А. В. «Действуйте быстро, корректно, по-австрийски»: Компенсационные поставки Австрии в СССР 1955-1963 гг. // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2022. Т. 13. №2 (112). С. 28.
- Stiftung Bruno Krayski Archiv (SBKA). Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten (BMAA). VII.2. Box 14. „Neues Österreich" vom 20. Mai 1959.
- РГАЭ. Ф. 413. On. 31. Д. 271. Л. 62.
- АВП РФ. Ф. 66. Оп. 49. П. 237. Д. 7. Л. 18.
- 1956, 3, 22. Trade Agreements with Austria not Carried Out. HU OSA 300-1-2-69198 // Records of Radio Free Europe / Radio Liberty Research Institute. URL: https://www.osaarchivum.org/digital-repository/ osa:6f4d954a-481d-4e85-af9c-5aflcebee9a9
- Никита Сергеевич Хрущев: Два цвета времени: Документы из личного фонда Н. С. Хрущева. Т. 2. Москва, 2009. С. 415.
- Никита Сергеевич Хрущев: Два цвета времени: Документы из личного фонда Н. С. Хрущева. Т. 2. Москва, 2009. С. 415.
- АВПРФ. Ф. 66. Он. 49. П. 237. Д. 7. Л. 32, 47-48.
- 34ХрущевС. Н. Никита Хрущев: Реформатор. Москва, 2010. С. 746.
- Таубман У. Хрущев. Москва, 2008. С. 59.
- Сорокин А. Н. Экономические отношения Советского Союза с Австрией и ФРГ: политические факторы и искусство дипломатии (1955-1964) //ОиаезЦо Яоз^са. 2022. Т. 10. № 5. С. 1661.
- АВП РФ. Ф. 66. Оп. 49. П. 237. Д. 7. Л. 31-32; РГАЭ. Ф. 413. Оп. 13. Д. 8258. Л. 6.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 41.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 42.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 42.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 65- 66.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 42- 43.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 43.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 43.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 Д. 271. Л. 43.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 Д. 271. Л. 44.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 44.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 45.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 44.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 45.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 45.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 45.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 46.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 46.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 46- 47.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 88.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 88.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 87- 89.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 39.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 53.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 54.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 89.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 100
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 119
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 119
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 63, 119.
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 119 -120
- РГАЭ. Ф. 4 3. Оп. 31 д. 271. Л. 120
- Mueller W. A Good Example of Peaceful Coexistence?: The Soviet Union, Austria, and Neutrality, 1955 - 1991. Wien, 2011. P. 80-81.
- PrA3. O. 413. On. 31. J\. 271. JI. 63.
- ABnPO. O. 66. On. 49. n. 237. A- 7. JI. 31-32.
- ABn PO. O. 66. On. 49. n. 237. A- 7. JI. 31-32.
- РГАЭ. Ф. 413. Оп. 31. Д. 271. Л. 105-106.
- Внешняя торговля СССР, 1922-1981: Юбилейный статистический сборник. Москва, 1982. С. 8, 26.