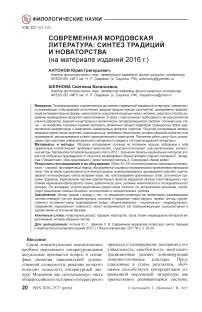Современная мордовская литература: синтез традиций и новаторства (на материале изданий 2016 г.)
Автор: Антонов Юрий Григорьевич, Шеянова Светлана Васильевна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 2, 2017 года.
Бесплатный доступ
Введение. Проанализированы художественные достижения современной мордовской литературы, преемственно развивающей и обогащающей эстетические традиции предшествующих десятилетий, одновременно предлагающей экспериментальные формы, новые аспекты осмысления концепции мира и человека, средства и способы выражения индивидуально-авторского миропонимания. В связи с этим возникает необходимость ее разноаспектной научной рефлексии, решения концептуальных аналитических литературоведческих проблем. Основная цель статьи - на материале отдельных изданий проследить органичный процесс корреляции традиционных форм художественной манифестации и новаторских индивидуально-авторских стратегий. Объектом исследования явились жанровые предпочтения писателей, композиционные, проблемно-тематические, мотивно-образные особенности их произведений, рассматриваемые в свете традиционализма и новаторства. Положения работы могут быть использованы при подготовке учебно-методического материала по предмету «История мордовской литературы». Материалы и методы. Методика исследования основана на системном подходе, вобравшем в себя сравнительно-типологический, проблемно-тематический, структурно-поэтический, культурологический, контекстный методы. Материалом послужили вышедшие в свет в 2016 г. творческие проекты национальных писателей: второй том «Избранных произведений» Н. Ишуткина, метажанровый сборник прозаика старшего поколения Е. Четвергова «Поладкстомо» («Без продолжения»), проект молодой поэтессы А. Подгорновой «Кроме рифм». Результаты исследования и их обсуждение. Рубеж ХХ-ХХI столетий в развитии национальной словесности - сложный, противоречивый период, обусловленный социально-экономическими проявлениями переходной эпохи. Тем не менее художественно-эстетический уровень проанализированных произведений позволяет спрогнозировать интенсификацию поиска авторами новых тем, конструирования оригинальных путей, эстетических программ, форматов. Характерными чертами художественных проектов мордовских авторов стали обращение к проблемам национально-философского плана, диалогичность речи, усиление аналитического и исследовательского дискурса. Это активирует эстетико-рецептивные предпочтения читателя, его ассоциативное мышление, способствует осмыслению сложных бытийных, онтологических и гносеологических, проблем. Заключение. Авторы пришли к выводу о том, что мордовская литература как преемственно развивающаяся система оперирует опытом предшествующих поколений и предлагает новые ракурсы, приемы, методы художественного постижения жизни, моделирования триады «общечеловеческое - национальное - индивидуальное». Современная национальная словесность может восприниматься как эволюционирующий социокультурный и художественно-эстетический феномен.
Литературный дискурс, традиция, новаторство, проза, поэзия, индивидуально-авторское миропонимание, мотивно-образный кластер
Короткий адрес: https://sciup.org/14723345
IDR: 14723345 | УДК: 821.511.152
Текст научной статьи Современная мордовская литература: синтез традиций и новаторства (на материале изданий 2016 г.)
Среди концептуальных аналитических проблем мордовского литературоведения актуальным признается вопрос о специфике развития национальной художественной словесности, решение которого позволит осмыслить литературный дискурс Мордовии как неотъемлемую часть общероссийского историко-литературного процесса и одновременно воспринять его уникальность, самобытность, ментальнотрадиционные реалии, доминирующие тематико-мотивные кластеры. Представленные в статье результаты, обобщения способствуют интерпретации современной мордовской литературы как преемственно развивающейся системы,
20 ISSN 2076–2577 (print)
в основе которой лежит органичное пе-ремежение традиционных форм художественной манифестации и новаторских индивидуально-авторских стратегий. Отсутствие достаточной временной дистанции позволяет передать тексты в первичной рефлексии, избежать в процессе их анализа сложившихся стереотипов и клише. Практическая значимость работы заключается в том, что ее положения могут быть использованы при разработке учебно-методического материала по предмету «История мордовской литературы».
Обзор литературы
Материалы и методы
Творческий процесс воспринимается авторами статьи как разноуровневая эстетическая система, выступающая, в свою очередь, частью социально-культурной системы. В соответствии с этим выбор системного подхода в ходе литературоведческого анализа вполне обоснован. Поскольку рассматриваемые произведения относятся к малоизученным, на первый план выходит необходимость их целостного исследования, предполагающего выяснение связей, отношений и единства между уровнями (содержательным и формальным) художественного текста. Системный подход реализуется так- же посредством применения совокупности сравнительно-типологического, проблемно-тематического, структурнопоэтического, культурологического, контекстного методов.
Результаты исследования и их обсуждение
На рубеже ХХ–ХХӀІ столетий мордовская литература демонстрирует новый уровень эстетического отражения целостности бытия в многообразии его проявлений, познания нравственной сути, духовной содержательности человеческого мира, экспликации глубинных процессов внутренней динамики личности, ее органических взаимосвязей с окружающей действительностью, осмысления триады «общечеловеческое – национальное – индивидуальное», что ведет к репрезентации жизненного континуума во всей его сложности и многогранности. Характерными чертами художественных проектов мордовских авторов стали обращение к проблемам национально-философского плана, диалогичность речи, усиление аналитического и исследовательского дискурса. Это активирует эстетико-рецептивные предпочтения читателя, его ассоциативное мышление, способствует осмыслению сложных онтологических и гносеологических вопросов. Подтверждают сказанное изданные в 2016 г. произведения эрзянских литераторов.
Вышедшие в свет в прошлом году художественные опыты на эрзянском языке немногочисленны: второй том «Избранных произведений» Н. Ишуткина [8], ме-тажанровый сборник прозаика старшего поколения Е. Четвергова (Нуянь Видяза) «Поладкстомо» («Без продолжения») [15], проект молодой поэтессы А. Подгорновой «Кроме рифм» [13]. Однако степень развития словесности, на наш взгляд, измеряется не количеством, а качеством эстетических проектов.
Вышеперечисленные характеристики национального литературного дискурса, обусловленные имманентными (внутрилитературными) и внешними, социально-историческими, общественнокультурными, факторами, свойственны
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ творчеству одного из самых активных эрзянских авторов – Н. Ишуткина, одинаково успешно освоившего эстетические законы поэзии и прозы.
Второй том «Избранных произведений» составили стихотворения, песни, поэмы широкого тематического диапазона. Стихотворения наполнены глубокими философскими обобщениями, метафорами, тонким лиризмом, самобытной образностью, о чем свидетельствуют их названия: «Ты чувствовал хоть раз такую боль…», «Ты снова нежно в сердце постучала…», «Душа срывает с груди кусочки плача…», «Сегодня у часов особый ход…», «Кто придет ко мне на поминки?..», «Уставшее воспоминание» и др. Поэтическим излияниям мастера присущи особенное песенное звучание, эмоциональные акценты, оригинальные мотивно-образные ряды, прекрасно подобранная рифма, мелодичность ритма. Правомерно говорить об определенной рецепции эрзянским поэтом лирических традиций С. Есенина. Одновременно его каждая творческая манифестация – проекция индивидуальноавторского миропонимания и факт осмысления национально-самобытного духовного мира, ибо «…культура всегда… национальная… Все творческое в культуре носит на себе печать национального <…> И великий самообман – желать творить помимо национальности» [4]. Мифофольклорная символика, архетипические образы, извечные оппозиции жизнь / смерть, любовь / ненависть, патриотизм / предательство, милосердие / жестокость наполняют сочинения Ишуткина общечеловеческим содержанием, указывают на экзистенциальную модель его лирического дискурса.
В ряде лирических произведений эксплицируются романтические тенденции, однако следует говорить о реалистической целостности художественного мировосприятия мастера слова. Поэтому его поэтический голос приобретает соответствующую интонационную окраску: от тихой грусти, нежной тоски до активной решительности. Ишуткин освещает сложные межличностные взаимоотношения, противоречия урбанистического социума, ко- торый утратил навыки гармоничного общения с окружающей природной средой, приводит идиллические зарисовки деревенского бытия, реанимирует историческое прошлое страны, осмысливает ее будущее. Особое место в его творчестве занимает традиционная для мордовской литературы тема деревни, в настоящее время осознаваемая с аксиологических, онтологических позиций. Актуальность данной тематической модели обусловлена тем, что она подталкивает писателей «…к эстетическому решению судьбоносных проблем национального бытия в прошлом и настоящем, остро чувствует преемственность времен и поколений, способствует ее сохранению, аккумулирует серьезные размышления о национальных корнях, менталитете…» [16, 79]. В стихотворениях о деревне воедино сливаются разнородные интенции: боль, тоска, восторг, нежность, умиление, раскрывающие семантику авторского восприятия малой родины.
В анализируемый сборник включено несколько «маленьких поэм»: «Обездоленная Русь», «Послевоенные дети», «Священное древо». Отметим, что «маленькая поэма», отличающаяся «…лако-ничностью сюжета, пунктирностью его развития, сочетанием повествовательной характеристики действующих лиц, событий и их раскрытия через восприятие и оценку лирического героя, повествователя, играющего в поэме активную роль» [5, 9 ], представляет собой достаточно редкое явление в мордовской литературе. В связи с этим поэмы Ишуткина следует оценивать как значимый шаг в развитии и обогащении национальных эпических традиций.
Проблемно-тематический континуум произведения «Обездоленная Русь» можно определить словами О. И. Налде-евой: «Поэма имеет два содержательных и структурных центра: судьба нации (народа) и выдвижение человека как гражданской личности, кроме этого <…> осмысление проблем сохранения языка, отношения к национальному культурному и духовному богатству» [11, 135]. «Эстетический объект» (М. М. Бахтин) сочинения отличается широтой временного кон- текста – художественно воспроизводится история Руси от языческой древности (объединения разрозненных племен, монголо-татарского ига, христианизации, восстаний под предводительством С. Разина, Е. Пугачева и т. д.) до современности. Народы, населявшие страну, мечтали о свободе, вольной и благополучной жизни, ждали перемен после каждой победы над внешним врагом, однако их судьба сложилась трагично. Символами врага огромной земли выступают град, гром, молния, черт. Не принесли счастья и колоссальные природные богатства. Неэффективная экономическая политика, развал колхозной системы, вымирание села и другое привели государство к разорению. Причину негативного итога поэт видит еще и в том, что люди не сохранили древние традиции, перестали прислушиваться к народной мудрости, утратили связь со своими корнями. Несмотря на глубокий критицизм, авторская мысль позитивна: страна выстоит, люди будут счастливы, лишь бы не пришло зло – война.
Ишуткин называет Русь «сильной» и «несчастной». Семантически противоположно заряженные эпитеты несовместимы, что усиливает драматизм звучания поэмы, трагизм художественно осмысливаемых общественно-исторических проблем. Последние строфы произведения по стилю близки к молитве – для своей огромной страны автор просит у Бога счастья, добра, светлого завтрашнего дня: «Да не покинет Бог тебя вовек, / Убережет он от гряды ошибок… / Хранит Россию сам Всевышний пусть, / И благодати будет не измерить» [8, 312 ].
В процессе осмысления закономерностей эволюции мордовского литературного процесса рубежного периода литературоведы приходят к мнению о том, что национальная словесность характеризуется «…стремлением к философскому осмыслению мира и человека, синтезом, “прорастанием” друг в друга философских идей и актуальных конфликтов конкретной социально-исторической действительности, острой гражданственностью, концентрацией нравственно-этических проблем, постижением многомерности человеческой личности во всей полноте ее бытия» [17, 261]. Высказанные суждения в полной мере отражаются в женском стихотворчестве, определяемом исследователями «…художественным феноменом… литературно-художественной целостностью, способом выражения “женского начала”, “женского мировидения”» [2, 39].
В мордовском женском поэтическом дискурсе выделяется творчество А. Подгорновой, лауреата литературной премии Главы Республики Мордовия для молодых авторов (2013), члена Союза писателей России (2013). В 2016 г. она выпустила вторую книгу стихов (первый сборник «Марямга» («Вслух») издан в 2013 г.) под интригующим названием «Кроме рифм», в которую вошли произведения на эрзянском и русском языках. Двуязычный сборник – своеобразный эксперимент поэтессы, возможность выразить поэтическую мысль на разных языках.
Эрзянская часть книги под названием «Таштан вайгель» («Храню голос») представлена философской лирикой и двумя баснями. Стихотворения «Две весны», «Туман», «Мне этот год пожелал стать счастливой…», «Букеты», «Просыпаюсь я утром…», «Любовь», «Нравоучение», «Этот ветер, щемящий душу…», «Дела», «Куда ты?», «Ты не врешь – врут о тебе…», «Беда», «Пока тепло не осилило холод…», «Усталость» и другие позволяют говорить о том, что Подгорновой «…свойственно не только стремление нащупать и обозначить грани и нити тесной взаимосвязи мира и собственного Я, духовная потребность ощутить целостность бытия, но и абсолютное приятие жизни во всех ее проявлениях» [10, 11 ].
В произведении «Усталость» лирический субъект испытывает чувства умиротворения, неги от того, что находится один в темной комнате. Темнота становится «теплой», оберегающей его от боли, внешних противоречий, воплощенных в образе мчащегося поезда. В пушкинских традициях осень – время элегичности, ностальгии. Герой осмысливает свою жизнь, которая ассоциируется с «обуглившимся поленом». Он так устал, что готов «проспать до утра», только тогда он как «ненужную
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ игрушку» отбросит «болезни-беды» и откроет «окна свету».
Удивительно, что молодая поэтесса воссоздает психологическое состояние пожилого человека, одолеваемого усталостью. Она абстрагируется от собственных интенций и посредством поэтического слова перевоплощается в другого человека. Справедливо говорить о прекрасном знании Подгорновой психологии людей разных социальных и возрастных групп, ее богатом мировоззрении, оригинальной интерпретации эмоций, состояний, ситуаций.
В стихотворении «Читне манейть, на-той вандыс неят…» («Дни ясные, даже видно завтра…») объектом рефлексии становятся понятия «жизнь», «подсознательное». Доминирует мысль о том, что человек по природе оптимистичен, он живет и радуется каждому дню, не замечая естественного хода времени. Однако в подсознательном, в данном случае в снах, возникают негативные ощущения, поэтому сны получают определения «плохие», «тревожные», «черные». Звучащие рефреном в конце всех строф слова «Лишь сны плохие / Лишь сны тревожные / Лишь сны черные» придают тексту некоторый мистицизм, углубляют интенции лирического субъекта. При этом метафорическая авторская мысль не направлена на решение сложных экзистенциальных проблем, однако побуждает к размышлениям о сложности человеческой природы, поиску душевной гармонии. Многочисленные глаголы движения (чарыть-велить «мечутся», моли «идет», кузи «поднимается», уи «плывет» и др.) используются для передачи динамики внутреннего состояния героини произведения.
В анализируемый сборник включены две басни на эрзянском зыке – «Шекша-та» («Дятел») и «Коткудавт ды Узере» («Муравьи и Топор»). Их названия указывают на то, что Подгорнова обращается не к традиционным анималистическим образам, а к орнитологическим и инсектным аллегориям. По типу проблематики ее басни идентифицируются как нравственно-философские, направленные на осмысление и осмеяние социаль- ных и человеческих недостатков и пороков. В произведении «Дятел» осуждается свойственная многим завышенная самооценка способностей. Ход мысли здесь привычный: от мира аллегорий – к миру людей. «Очеловечиванию» дятла способствует определение «прянь шныцясь» («хвастун»). Мораль звучит от второстепенного персонажа, а закрепляется рассказчиком: «Улезэ неренк сювозь ансяк тевс!» («Пусть клюв будет острым лишь в деле!»).
В двуперсонажной басне «Муравей и Топор» критикуются социальные пороки – вражда и непонимание среди людей, разобщенность и расслоение общества. Законы ожидания привычного содержания аллегории нарушены. Образ муравья традиционно символизирует трудолюбие, домовитость. Так, в хрестоматийной басне И. Крылова «Стрекоза и муравей» трудолюбивый муравей отчитывает легкомысленную, ленивую, пропевшую «лето красное» стрекозу. Подгорнова не использует традиционную семантику, прибегая к образу муравья как аллегории высокомерия, неоправданной враждебности. Это тот самый случай, когда аллегоричность персонажей не вытекает из их привычного «способа действия» (Л. Выготский).
В классических образцах басни вследствие ее малого эпического объема развития действия обычно не наблюдается, происходит переход от завязки к кульминации, затем к мгновенной развязке. Подгор-нова же осуществляет определенную деформацию сюжетно-композиционных канонов басни: четко различимы сюжетные движения (совместное и дружное проживание муравьев, возникающая угроза разрушения муравейников Топором, страдания муравьев, выдвижение высокомерных муравьев, их желание расслоить общество на «плохих» и «хороших», выступления «хороших» с трибуны, появление Топора), что следует воспринимать как естественный процесс эволюции художественноэстетических традиций и канонических жанров.
Русскоязычная часть сборника с несоответствующим геометрическим параме- трам названием «Пятый угол» включает в себя стихотворения, датированные 2011 – началом 2016 г., которые по жанровостилевым признакам идентифицируются как философские. Разнообразные по тематике произведения объединяют неповторимый стиль, глубокие размышления о современном мире, непростых отношениях между людьми. Репрезентированные поэтессой образы-символы приобретают индивидуально-авторскую интерпретацию, что усложняет их рецепцию. Подгорно-ва часто обращается к кодифицированному образному языку, что может расцениваться как своеобразная попытка создания маркированной знаковой системы. Ее стихи лишены созерцательной архитектоники. Приоритетным признается психологический контекст, о чем свидетельствует, в частности, отказ от пейзажного мотивно-образного кластера в пользу предметной символики как слагаемого мирореально-сти литератора.
В сборнике наблюдается определенное соотношение двух лирических стихий: близкой к народно-поэтической традиции песенной лирики и нерифмованного резкого стиха, характерного для В. Маяковского. В стиле русского поэта написано произведение «Обстановочка № 1», претендующее на роль гимна коммунальной квартире советской эпохи. Живущая по своим законам, «вращающаяся по своей оси» коммунальная квартира осмысливается «Вселенной», «Галактикой». Ее часть – «Земная коммуналия», неотъемлемыми признаками которой являются «паутина в левом верхнем углу комнаты» и «часы с кукушкой». Бытовые детали приобретают семантику символических образов, становятся проводником экзистенциального постулата о том, что время идет, но элементы прошлого четко отражаются в современности. В верлибрах «Обстановочка № 1», «Ересенок», «Чудесное», «Монень те кизэсь арсесь улемс шумбракс» («Это лето завещало мне здоровье») и других наблюдаются частичное использование рифмы, словесные повторы (рефрен), ассонансы, аллитерации, что придает им выразительность, легкость, сглаживает отсутствие рифмы как
PHILOLOGY проявления «чужеродного» в мордовской поэзии.
Иное звучание, эмоциональный накал, крик души слышны в сочинении «Монолог трубача». Уточним, что Подгорнова намеренно избегает фольклорных реминисценций (образов, мотивов, мифологической символики и т. д.), однако данное стихотворение, построенное на свойственных устному народному творчеству строфической анафоре (Я вам играл. Я распахнул вам душу // Я снес с петель и двери и замки… // Я вам играл. Ко мне, чужому мужу, вы шли за утолением тоски и др.), гиперболе (Снес с петель и двери и замки; так играл, что мог один лишь я), сравнениях (Я в вас играл, как ветер в проводах), выступает исключением. По искренности, глубине эмоций оно сопоставимо с плачем, о чем свидетельствуют воссоздающие внутреннее состояние лирического субъекта назывные предложения: «Волненье. Откровенье. Боль».
Следует сказать, что с каждым поэтическим опытом стиль, слог, интонации А. Подгорновой становятся все больше созвучны араповским. Правомерно говорить об усилении аналитической струи, самокритичности, требовательности, категоричности авторской мысли, что характерно для имеющих сладко-терпкий вкус произведений А. Арапова, лирический герой которых вступает в противоречия с жизненными катаклизмами, глубоко переживает их. В качестве эпиграфа к ряду стихотворений поэтесса выбирает араповские строки, наполненные философским смыслом и ставшие афоризмами (Сталмо эряви кандомс эрямонь-пингень перть «Свою ношу несешь всю жизнь»; Китне кольсть, ды молемскак а ков «Дороги разбиты, да и идти некуда»). На наш взгляд, данные эпиграфы не стоит интерпретировать как искусственные элементы композиции, реминисценция возникает непроизвольно, вызвана великой силой памяти и мастерством ушедшего из жизни поэта.
Каждый настоящий художник слова на определенном жизненном этапе оказывается в поисках смысла жизни, своего предназначения. Его не могут не волно-
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ вать традиционные бинары красота / безобразное, истина / ложь, жизнь / смерть и т. д. Правомерно говорить о том, что Подгорнова тяготеет к выражению мыслей посредством философского миропонимания. Характерные для ее манеры диалогизм, размышления, аналитизм, экспликация субстанциальных начал, осмысление морально-этических и социальных категорий, нравственного и культурного опыта народа приводят к актуализации глубинных общечеловеческих проблем. При этом в процессе познания мира поэтесса не абстрагируется от предметной реальности, наоборот, концентрирует проявления окружающей материальной среды, отказывается от камерных пейзажных зарисовок в пользу освещения различных сторон действительности. В осознании единства преходящего (материального) и вневременного обнаруживается «…глубина целостности эстетического мировосприятия, что в свою очередь является характерным признаком философизма» [14, 550 ].
Безусловно, Подгорнова – яркая звезда на поэтическом небосклоне Мордовии. Она смело экспериментирует в области языка, жанра, стиля, находясь в поиске новых форм, тем, образов, художественных приемов, рифмы, в процессе разработки оригинальных проектов.
В современной литературе республики наряду с книгами, построенными по жанровому, тематическому принципам, наблюдается обращение к «итоговой» книге, чаще всего представляющей собой метажанровое объединение. При ее создании авторы тщательно выстраивают ее архитектонику, скрупулезно осмысливают эмпирический материал, более того, они «…во многом опираются на классический жанровый канон “итоговой” книги… где доминирует прощальный мотив, подведение неких жизненных итогов, что отражается в метафорическом названии книг» [6, 32 ].
Примером «итоговой» книги может служить разножанровый сборник Е. Четвер-гова (Нуянь Видяза) с пессимистичным названием «Поладкстомо» («Без продолжения»). В аннотации к нему подчеркивается, что это своеобразный отчет о про- житом, проделанном за многие годы. Автор проводит определенную черту в своем творчестве, подводит реципиента к восприятию его финальных манифестаций, что несколько неожиданно. От прозаика, опубликовавшего за последние годы два оригинальных по содержанию и форме романа («Ванечка» (2011), «Здесь и Там» (2013)), читатель ждет продолжения – новых эпических проектов в крупной форме.
В художественной части книги «Без продолжения» (в одноименной повести, рассказах, миниатюрах) отчетливо прослеживаются приверженность прозаика к нравственно-этической проблематике, скрупулезный анализ психологического состояния персонажей, критичность позиции, активное обращение к внесюжет-ным элементам (в основном размышлениям о негативных проявлениях жизни социума, общественных и человеческих пороках). С одной стороны, это явилось способом выражения авторского сознания, с другой – вызвано тем, что «…все в современном мире находится под знаком кризиса, не только социального и экономического, но также культурного и духовного…» [3, 654 ]. Художественное творчество в жизненной концепции Чет-вергова призвано преодолеть противоречия действительности, преобразить мир, восстановить гармонию в человеческих отношениях, помочь познать самого себя и бытие.
В состоящий из пяти разделов сборник включены рассказы, миниатюры, воспоминания, биографические очерки, публицистика, которые выступают наглядным свидетельством «…смещения литературы в сторону гуманистического сознания… углубления ее исследовательского пафоса, актуализации проблем нравственных и философских, доминирования аналитического начала над иллюстративным» [9, 72]. Рассказы образовали отдельные циклы: «Элина патянь ёв-тнематнестэ» («Рассказы тетушки Эллины»), «Телесь нарвасы тундонть» («Зима выведет весну»), «Кискань уцяска» («Собачье счастье»). Во вторую часть книги вошли статьи, рецензии национальных критиков, литературоведов, линг- вистов В. И. Демина, Д. В. Цыганкина, А. М. Шаронова, С. В. Шеяновой, отражающие те или иные стороны творческой лаборатории Четвергова. Последние страницы книги отведены под словарь. Прозаик, прекрасный знаток и ценитель эрзянского языка, реанимирует давно забытые слова, предлагает свои неологизмы взамен заимствований.
Заключение
Высказанные в ходе анализа художественных проектов положения подводят к заключению о том, что мордовская литература начала ХІХ в., оставаясь в рамках традиционализма, подвержена трансформации жанровых канонов, констант поэтической выразительности, что обусловлено глобальными общественными изменениями, самой действительностью, подталкивающей к поиску новых тем, конструированию иных путей, эстетических программ, форматов. Несмотря на негативные оценки, правомерно, на наш взгляд, утверждать, что мордовская литература как часть национальной культуры, средство отражения национального менталитета, этносознания и этнофилософии может оцениваться как эволюционирующий социокультурный и художественно-эстетический феномен.
Поступила 29.05.2017
Список литературы Современная мордовская литература: синтез традиций и новаторства (на материале изданий 2016 г.)
- Антонов Ю. Г. Зарождение и пути развития мордовской драматургии. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2012. 260 с.
- Арзамазов А. А. Эволюция образной системы и лингвосемантические трансформации в удмуртской поэзии второй половины 1970-х -начала 2010-х годов: дис. … д-ра филол. наук. Ижевск, 2016. 572 с.
- Бердяев Н. А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. Москва: АСТ: Астрель, 2011. 668 с.
- Бердяев Н. А. Судьба России. URL: http://lib.ru/HRISTIAN/BERDQEW/rossia.txt (дата обращения: 28.05.2017).
- Гудкова С. П., Дубровская С. А. Поэма и ее жанровые модификации в современной поэзии Мордовии//Финно-угорский мир. 2015. № 2 (23). С. 8-9.
- Гудкова С. П. Книга стихов как крупная жанровая форма в творчестве русскоязычных писателей Мордовии (на материале поэтических изданий 2014-2015 гг.)//Вестник угроведения. 2016. № 2 (25). С. 27-35. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26485728 (дата обращения: 23.05.2017).
- Демин В. И. Мой народ смеется… Саранск: Литературный фонд России, 2016. 400 с.
- Ишуткин Н. Избранные произведения: в 3 т. Т. 2. Стихотворения, песни, поэмы. Саранск: Литературный фонд России, 2016. 424 с.
- Кременцов Л. П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты. 2-е изд. Москва: Флинта: Наука, 2008. 224 с.
- Малева А. В. Лирическая героиня современной коми женской поэзии: особенности семантики и поэтики образа: автореф. дис. … канд. филол. наук. Сыктывкар, 2014. 23 с. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_23293572_34511544.pdf (дата обращения: 26.05.2017).
- Налдеева О. И. Жанровая система поэзии Мордовии: генезис, эволюция, поэтика/Мордов. гос. пед. ин-т. Саранск, 2012. 135 с.
- Налдеева О. И. Современная мордовская поэзия: основные тенденции и художественные ориентиры/Мордов. гос. пед. ин-т. Саранск, 2013. 285 с.
- Подгорнова А. Кроме рифм. Саранск, 2016. 144 с.
- Степин С. Н. К вопросу эволюции жанра философской лирики в творчестве современных поэтов Мордовии//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12, № 5 (2). С. 545-551. URL: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2010/2010_5_545_551.pdf (дата обращения: 20.05.2017).
- Четвергов Е. Поладкстомо -Без продолжения. Саранск, 2016. 676 с.
- Шеянова С. В. Мордовский роман о современности: национально-художественный традиционализм и признаки обновления эпической формы//Финно-угорский мир. 2012. № 3/4. С. 78-83.
- Шеянова С. В. Современный мордовский роман: проблематика, поэтика. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2013. 284 с.