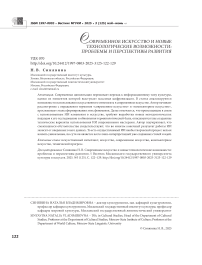Современное искусство и новые технологические возможности: проблемы и перспективы развития
Автор: Синявина Н.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Художественная культура
Статья в выпуске: 3 (125), 2025 года.
Бесплатный доступ
Современная цивилизация переживает переход к информационному типу культуры, одним из элементов которой выступает массовая цифровизация. В статье анализируются возможности использования искусственного интеллекта в современном искусстве. Автор начинает рассмотрение с определения терминов «современное искусство» и «компьютерное искусство», прослеживает этапы формирования этих феноменов. Далее отмечается, что происходящие в связи с использованием ИИ изменения в искусстве, требуют выработки новых методологических подходов к его исследованию и обновления терминологической базы, описываются уже созданные технические варианты использования ИИ современными мастерами. Автор подчеркивает, что сложившиеся обстоятельства свидетельствуют, что во многом конечный результат работы ИИ зависит от введенных в него данных. То есть осуществляемый ИИ якобы творческий процесс нельзя назвать уникальным, по сути он является всего лишь интерпретацией уже созданных стилей и идей.
Искусственный интеллект, искусство, современное искусство, компьютерное искусство, технический прогресс
Короткий адрес: https://sciup.org/144163483
IDR: 144163483 | УДК: 070 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-3125-122-129
Текст научной статьи Современное искусство и новые технологические возможности: проблемы и перспективы развития
Текучесть и неопределенность современной цивилизации особенно остро ставят вопросы о способах удовлетворения экзистенциальной потребности человека в структурировании и упорядочивании универсума [3]. Современное мышление, во многом вдохновленное постмодернизмом, признает отсутствие единого, всеобъемлющего порядка, воспринимаемого как конструкт, а не как объективная реальность. Доминирующим фактором в данной ситуации становится плюрализм перспектив, локальных нарративах и деконструкции универсальных истин, что может порождать как тревогу, так и освобождать от жестких догм. Следовательно, вместо поиска уже сформированного, готового порядка, акцент делается на активном конструировании собственной системы ценностей и смысла, идентичности, индивидуальной ответственности за создание смысла в абсурдном мире.
Искусство является не просто эстетической формой, но и отражением всего происходящего, поскольку главная его цель состоит не в работе «с предметами, а с взглядом на них» [4, с. 33] (т. е. можно говорить не только о философии искусства, но и об онтологии взгляда, фокуса видения). Изобразительное же искусство предлагает зрителю не только увидеть, но и осмыслить происходящее вокруг. История искусств свидетельствует о предпринимаемых в разные эпохи попытках структурировать универсум: придумка Гвидо Д’Ареццо нотного стана, благодаря чему стала возможной фиксация григорианского хорала, выработка иконографического канона в христианском изобразительном искусстве, появление выступавших своего рода фильтром художественных стилей, изобретение рамы, назначение которой заключается не в окантовке картины, но в установлении границы непрофанного пространства, открывающее зрителю иную реальность. Но как современное искусство может отразить фрагментарность и мозаичность современного общества? Может ли оно помочь в упорядочении перманентно изменяющегося мира?
А. Ноэ приводит результаты интересного теста, цель которого состояла в установлении авторства 10 цитат, якобы написанных Д. К. Деннетом, его педагогом. Лишь в семи случаях А. Ноэ верно угадал высказывания, принадлежавшие профессору, а не системе обработки текстов, которую обучали путем чтения текстов Д. К. Деннета [6, с. 222]. В 2021 году в Empirical Studies in the Arts была опубликована статья профессора Харши Ган-гадхарбатлы, преподававшего в Университете Колорадо. Он, занимаясь проблемами искусственного интеллекта (ИИ), провел опрос, демонстрируя ряд картин и предлагая участникам определить, какие из них были созданы с помощью ИИ, а какие написаны человеком. Полученные данные удивили ученого: 75% респондентов не смогли определить, кто является автором. Результаты этого опроса вызывают вопросы, однозначных ответов на которые пока нет.
Заявленная тема многоаспектна, поэтому в рамках статьи раскрыть все не получится. Однако широта постановки проблемы связана с происходящими сегодня дискуссиями о каждом из включенных в название явлений:
– Что такое современное искусство?
– Какой период считать началом компьютерного искусства?
– Каковы возможности искусственного интеллекта?
– Какое воздействие ИИ оказывает на искусство?
И еще одна ремарка: факт существования искусственного интеллекта, как и современных художественных практик, бесспорен. Мы стали свидетелями их взаимодействия, но способ описания этих процессов сегодня вызывает вопросы. В рамках искусствознания предшествующего периода механизм описания был связан с ориентацией каждой из его отраслей на выявление собственной специфичности, на свои методологические подходы. Подобная специализированность в то время выглядела логичной, поскольку позволяла проводить всесторонний анализ произведений искусства. Однако сегодня тер- минологическая база, унаследованная нами от прежних эпох, которой свойственны иные характеристики, которая жила в другой системе координат, некорректно отражает процессы, протекающие сегодня. Она сформирована риторикой другого типа. Следовательно, предстоит выработать новый понятийный аппарат, адекватно описывающий состояние современного искусства. Уже сегодня искусствоведы предпринимают попытки выйти за пределы профильности, проводя исследования с помощью комплекса методологий разных отраслей искусствоведения. Безусловно, формирующаяся метанаука об искусстве должна опираться на накопленные к этому моменту знания и обобщения. «Комплексный подход, с характерной для него опорой на взаимодополняющие ресурсы различных видов искусства и различных национальных школ, позволяет выходить на самые широкие обобщения» [2, с. 46].
Таким образом, целью данной статьи видится обозначение отдельных проблемных точек, осмысление и проработка которых – задача для научного сообщества в целом.
Начнем, пожалуй, с самого сложного вопроса, связанного с современным искусством. Многие задаются вопросом, а существует ли оно? Приходя на выставки современных мастеров, часть публики говорит, что экспонируемые работы вызывают лишь любопытство, но не производят эстетического воздействия. Действительно, некоторые проекты (театральные постановки, выставки) сложно отнести к художественной сфере, поскольку их создатели ставят перед собой, прежде всего, коммерческие цели, а именно – получение максимальной прибыли.
Однако дискуссионность вокруг современной художественной культуры связана и с трансформацией искусства как системы. Мы воспитывались в контексте антропоцентрической парадигмы искусства, в рамках которой выстраивались особые взаимоотношения между творцом и публикой, где первый решает, что «им делать, а публика из сентиментальных соображений это принимает» [5, с. 6].
В англоязычной литературе искусство после 1950-х годов обозначали contemporary art, хотя это словосочетание появилось еще в 1910 году. Именно в этот момент Роджер Фрай основал «Общество современного искусства», деятельность которого была связана с покупкой работ живших в те годы художников и дальнейшей их перепродажей как состоятельным людям, так и музеям. Лондонское общество стало первым, но чуть позже подобные организации, ставящие перед собой коммерческие интересы, открылись во многих странах. Таким образом была заложена институциональная основа «для различения искусства и не-искусства. Куратор, эксперт, знаток не просто объяснял, что означает это искусство, какие смыслы несет, но прямо говорил, что именно это является искусством» [5, с. 15].
Лишь в 1960-е годы это понятие получило современное смысловое наполнение, что связано, с одной стороны, с попытками определить характеристики послевоенного искусства, с другой, с трансформацией взаимоотношений творца и публики. Это тот момент, когда приходит осознание возможности множественности позиций в любой из сфер, в том числе и в искусстве.
Сегодня не существует единого определения современного искусства, ведутся дискуссии относительно его хронологических границ. Более того, художников, которые были современниками во второй половине ХХ века, относят к разным эпохам (например, С. Дали и Йозефа Бойса, которого Дали пережил; но Бойса рассматривают как часть современного искусства, а Дали нет).
Итак, несмотря на сложность определения границ современного искусства, мы все же не можем отнести к сфере искусства вещь, не имеющую для этого оснований. Однако искусством вдруг может оказаться предмет, представленный в необычном ракурсе, но только в том случае, если он становится объектом дискуссий, благодаря чему происходит пересмотр как уже сложившихся теорий искусства, так и системы искусства в целом.
Возникает вопрос об уникальности создаваемых ИИ вещей, возможности их технической воспроизводимости, проблема авторства. Но разве мы не были свидетелями того, как технические устройства меняли сферу искусства? Так, графиня Ада Лавлейс, узнав об изобретении ее приятелем, математиком из Кембриджского университета Чарльзом Бэббиджем, аналитической машины (или первым в мире компьютером), сразу задумалась о том, как благодаря этой технической вещи создавать картины и музыку. В свое время В. Беньямин пишет, что «кино, в особенности звуковое, открывает такой взгляд на мир, который прежде был просто не мыслим» [1, с. 46].
Потрясающих результатов в области синтеза звука и электронной музыки добился Э. Н. Артемьев, который в начале 1960-х годов познакомился с создателем одного из первых в мире синтезаторов (АНС, 1958 год) и основателем Московской экспериментальной музыкальной студии электронной музыки Е. А. Мурзиным. Более того, если проанализировать этапы развития современной музыки, то они напрямую связаны с появлением новых технологий и технических устройств.
Примерно к этому же времени относится и становление компьютерного искусства. Уже с конца 1950-х годов Манфред Мор, Георг Нис, Майк Нолл начинают проводить эксперименты в этой области: они пишут коды для создания алгоритмов и задумываются о возможности использования компьютерных технологий в искусстве. Любопытно, что Манфред Мор был еще и саксофонистом, из чего следует, что атональность и абстрактность, чувственность и импро-визационность, присущие джазу, повлияли на его работу с алгоритмами. Сначала он пытался обучить компьютер традиционным принципам рисования, но скоро понял, что необходимо выработать новые приемы, благодаря которым компьютерные технологии будут встроены в сферу искусства. То есть он задумался об ином использовании машины, у которой должен появиться собственный эстетический язык.
Однако одним из лидеров в развитии этой сферы была все-таки Вера Молнар, которая с самого начала поставила перед собой задачу использовать компьютер для создания произведений искусства. С этим запросом она и приехала в Парижский университет, где крайне скептически отнеслись к ее идее, но все же предоставили возможность попробовать с помощью алгоритмов «писать». Она обладала особым типом мышления, и в ее работах еще предшествующего периода уже заметна тенденция на автоматизацию и алгоритмизацию (например, цвета). Однако первые «компьютерные» произведения Молнар вызвали возмущение и упреки в «дегуманизации искусства». Примечательно, что один из основоположников этого направления – Фридер Наке, математик, информатик – опубликовал небольшую статью в бюллетене Общества компьютерного искусства «Компьютерного искусства не должно быть» [9], где он рассматривает разные точки зрения, сформировавшиеся к началу 1970-х годов на эту проблему. Он отмечает, что появление компьютерного искусства не способствовало прогрессу искусства, но признает, что возможности, которые предлагает компьютер, интересны и расширяют используемые художниками методы создания произведений искусства. Более того, он подчеркивает, что благодаря им выстраиваются новые взаимоотношения между автором и машиной. В дальнейшем он будет одним из первых, кто начнет изучать взаимосвязи между теорией информации и эстетикой («Эстетика как обработка информации», 1974). Манфред Мор, начиная с 1968 года, проводит семинар «Искусство и информатика» в Парижском университете. Таким образом, постановка данной проблемы относится не к сегодняшнему дню, она имеет уже полувековую историю.
И в случае с кино, и в случае с электронной музыкой техника выступала лишь одним из инструментов, с помощью которого автор создавал произведение искусства.
Коллингвуд писал, что «искусство – это основная и фундаментальная деятельность сознания» [8, p. 14]. Но можем ли мы говорить о наличии сознания у ИИ? Под искусственным интеллектом прежде всего имеется в виду способность компьютера учиться на собственном опыте, находить решение для сложных задач. Очень схоже с тем, что проделывает и человеческий мозг. Но компьютер пока не способен понимать окружающий его мир, чувствовать и, следовательно, проявлять эмоции. Безусловно, по сравнению с первыми экспериментами в этой области в 1960–1970-е годы, благодаря умению современного компьютера обрабатывать большие массивы данных, у художников появились новые возможности.
Уже сегодня существуют программы, обучающие компьютер и в этом направлении. Комплекс этих программ Artificial Intelligence Art базирующийся на алгоритме, благодаря которому ИИ учится распознавать художественные стили и атрибутировать произведения искусства, а потом – на основе изученного материала – он создает свои работы. Разнообразие методов обучения ИИ поражает: 1) нейронная передача стиля (NTS), благодаря которой есть возможность имитировать стиль известнейших мастеров (на входе даются два изображения – оригинал и шаблон стиля, основанный на параметрах уже обученной нейросети; благодаря данному методу как бы воспроизводится оригинал, что ставит вопрос об авторстве, поэтому ИИ в окончательный вариант изображения всегда включает некую деталь, отличающую его от оригинала); 2) метод Generative Adversarial Network (GAN, генеративно-состязательная сеть), изобретенный в 2014 году Яном Гудфеллом и базирующийся на взаимодействии двух нейросетей (генератора и дискриминатора): одна из них создает изображение из включенных в нее шаблонов, а другая пытается верифицировать его и определить его оригинальность. Первым в художественной сфере в 2015 году этот метод применил сотрудник Google Александр Мордвинцев. К 2018 году GAN-система изучила 15 тысяч произведений мирового искусства ХIV–ХХ веков.
Указанные методы стали использовать и для произведений, которые по разным причинам не были авторами завершены. ИИ сначала «знакомят» с творчеством художника, с особенностями его стиля, а затем уже помещают незаконченное произведение. Одну из первых подобных манипуляций провели с недописанным Гилбертом Стюартом портретом Джорджа Вашингтона (или «Атене-умским портретом», 1796). В течение жизни художник создал более 100 портретов первого президента США, при этом почти 70 из них были авторскими копиями Атенеумского портрета. Этот портрет писался по заказу жены Джорджа Вашингтона, Марты, которая надеялась стать его владелицей (в 1795 году художник уже написал портрет Вашингтона, который так понравился жене президента, что она попросила мужа еще раз попозировать Стюарту). В ходе работы над картиной живописец понял, что он создал эталонный образ президента, с которым не готов расстаться, поэтому под разными предлогами откладывал ее завершение. Действительно, именно этот портрет стал для Стюарта ориентиром при создании образа Джорджа Вашингтона уже после его смерти. При проведении эксперимента по «достраиванию» Атенеумского портрета использовали нейросеть ruDALl-E, которая выдала четыре его варианта.
Однако есть работы, полностью созданные ИИ, но продаваемые как произведения искусства. Уже ставший хрестоматийным пример «Портрета Эдмона де Белами», созданный творческим коллективом «Obvious» («Очевидность») с помощью GAN-системы в 2018 году и проданный на аукционе Christie’s за сумму свыше 400 тыс. долларов. Почему были созданы именно портреты (кроме Эдмона Белами были и портреты «его семьи», всего в эту серию входят 11 картин)? На основании проведенных тестов было установлено, что лучше всего алгоритм справляется с портретным жанром. Эта работа вызвала дискуссию, главной темой которой был вопрос о возможности отнесения ее к сфере искусства. Кроме того, продажа подобной работы на одном из крупнейших аукционов за столь внушительную сумму подрывала основы современного арт-рынка. Однако создатели этой портретной серии неоднократно подчеркивали, что GAN-система способна лишь копировать стиль того или иного художника, но создать что-то оригинальное, авторское не в состоянии.
Таким образом, ИИ-искусство есть всегда изображение, к созданию которого причастны креативщик (творец, художник) и ИИ, при этом степень участия обеих сторон зависит от проекта. Но в связи с этим возникает вопрос: может ли человек, исходя из личных, а, следовательно, субъективных предпочтений относительно того, что отнести к искусству, а что нет, не допускать компьютер к той или иной информации? Здесь уместно привести ответ старшего научного сотрудника отдела корпорации Apple по вопросам ИИ и машинного обучения Карлоса Гестрина, который он дал в 2018 году. По его словам, при использовании метода случайной выборки при обучении системы посредством выгрузки в нее данных из всемирной сети получится «агрессивный бот, обладающий наклонностями женоненавистника, сексиста и расиста. К сожалению, данный факт не удивляет, т. к. машина перенимает качества современного социума». В данном случае специалисты говорят о возможности провести параллель с «картами Ширли», которые активно использовались в 1960-х годах как стандарт, на который опирались при обработке фотографий. На них были изображены модели со светлым цветом кожи, тех же, что были темнее, система считала испорченными. Здесь тоже видна сильная связь влияния субъективных исходных данных на конечный результат. Гестрин отметил: «Недостаточно просто выбрать данные для использования, необходимо подумать и о том, в каком свете вводимые данные выставляют нашу культуру, наши ценности и наши жизненные установки». В таком случае уместен вопрос о «креативности» ИИ, возможно ли она? Исходя из сказанного, не следует забывать, что
«удивительное и новизна, ценность компьютера – например, революция его в шахматах, произведенная машинным обучением, – также принадлежит» [6, с. 223] человеку. Безусловно, возможности, продемонстрированные компьютером в этих играх, позволили взглянуть на них иначе, пересмотреть их стратегии, что расширило вариативность игры в них. Но в отличие от человека, который тоже способен обучаться, усваивать и систематизировать получаемые знания, делать на их основе выводы и принимать решения, компьютер лишен главного – способности предпочтения. То есть важным выступает не тот факт, способен человек определить авторство того или иного текста, картины и так далее, важна ценность созданного, которая только и выступает маркером для отнесения или не отнесения его к сфере искусства, поскольку ценность произведения искусства определяется той работой, которая осуществляется им в пространстве идей и смыслов.
Таким образом, проблема упорядоченности в современном мире решается не путем поиска единого, готового ответа, а путем активного конструирования личных систем ценностей и смыслов, адаптации к текучести и неопределенности, использования инструментов науки и технологий, а также участия в построении более справедливого и осмысленного общества. Это сложный и непрерывный процесс, требующий рефлексии, критического мышления и открытости к новым возможностям. Важно понимать, что «порядок» в современном мире – это не статичное состояние, а динамичный процесс, требую- щий постоянной адаптации и переосмысления. Эти особенности современной цивилизации, характеризующейся высокой скоростью изменений, технологическим прогрессом и информационной перегрузкой, оказывает воздействие на развитие искусства, стимулируя новые формы самовыражения и ставя под сомнение традиционные подходы. Искусство отражает ощущение фрагментарности и неопределенности современного мира, что находит отражение в отказе от четких повествований, линейных сюжетов и традиционных форм, предпочтение отдано эксперименту, деконструкции и множественным интерпретациям. Границы между различными видами искусства размываются, а популярность приобретают мультимедийные проекты, сочетающие живопись, скульптуру, видео, звук, перформанс и интерактивные элементы. Анализ существующей сегодня практики свидетельствует, что во многом конечный результат работы ИИ зависит от введенных в него данных, на основе которых он учится. То есть осуществляемый ИИ якобы творческий процесс нельзя назвать уникальным, по сути он является всего ли интерпретацией уже созданных стилей и идей. Произведение искусства не является просто вещью, оно выступает и элементом коммуникации, и формой эстетического выражения, и отражением картины мира эпохи, оно контекстуально и прочее. Вопрос о технологии его создания в этом перечне далеко не первый. Бесспорно другое: автором любого произведения искусства выступает человек, поскольку генератором идей по-прежнему остается он.