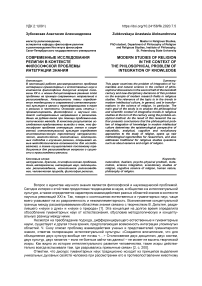Современные исследования религии в контексте философской проблемы интеграции знания
Автор: Зубковская Анастасия Александровна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2020 года.
Бесплатный доступ
В настоящей работе рассматриваются проблема интеграции гуманитарных и естественных наук в контексте философских дискуссий второй половины ХХ в. и новые дисциплинарные решения этой проблемы на примере современных направлений в религиоведении. Актуальность темы определяется тенденциями в современной интеллектуальной культуре в целом и трансформациями в науке о религии в частности. Основная цель статьи - проанализировать философский и научный контекст интегративных направлений в религиоведении на рубеже веков при помощи проблемно-аналитического метода. В качестве результатов исследования представлены выводы о том, что философская проблема интеграции знания в современной интеллектуальной культуре определяет эпистемологическую перспективу натуралистических, аналитических, когнитивных, эволюционных подходов к изучению религии, открывает новые методологические возможности для исследователей, а также осуществляет постановку традиционных для религиоведения вопросов о сущности и происхождении религии.
Натурализм, дуализм, психофизическая проблематика, материализм, интеграция наук, эволюционное религиоведение, когнитивное религиоведение, человеческая природа, философия религии
Короткий адрес: https://sciup.org/149134836
IDR: 149134836 | УДК: 2:1(091) | DOI: 10.24158/fik.2020.7.5
Текст научной статьи Современные исследования религии в контексте философской проблемы интеграции знания
Зубковская Анастасия Александровна
Вопрос о единстве научного знания является философской и науковедческой проблемой. Сегодня интерес к этой теме продиктован тенденциями в науке, в обществе и в интеллектуальной культуре, а также определяется характером взаимодействия разных областей знания в контексте научных революций XXI в. Так, говоря о соотношении естественных и гуманитарных наук, чаще всего указывают на их разрозненность и некомплементарность. Возникновение концептуальной границы между рассматриваемыми областями знания связано с творчеством В. Дильтея, разделившего «науки о духе» и «науки о природе» [1]. Эта концепция на долгое время определила обособление гуманитарных наук от естествознания, обусловив методологическую и концептуальную разницу между ними.
Несмотря на преобладание подхода, дифференцирующего естественные и гуманитарные науки, существует и другая точка зрения, предполагающая возможность интеграции упомянутых областей. Ч. Сноу описал проблему взаимодействия ученых и представителей гуманитарного знания, отметив поляризацию интеллектуальной культуры: «Создается впечатление, что для объединения двух культур вообще нет почвы <…> Столкновение двух дисциплин, двух систем, двух культур, двух галактик – если не бояться зайти так далеко! – не может не высечь творческой искры. Как видно из истории интеллектуального развития человечества, такие искры действительно всегда вспыхивали там, где разрывались привычные связи» [2, c. 200].
Отметим, что дискурс гуманитарных наук традиционно исходит из принципов выделения уникальных духовных свойств человека при рассмотрении его в противопоставлении животному или природе в целом. Основатель философской антропологии М. Шелер писал: «…слово “человек” должно означать совокупность вещей, предельно противоположную понятию “животного вообще”, в том числе всем млекопитающим и позвоночным» [3, с. 139]. В качестве такого рода уникальных человеческих признаков, отличающих его от животного, выделяли культуру, язык, религию и иное, однако сегодня этот взгляд является дискуссионным.
Вместе с тем основную философскую характеристику естественных наук можно выразить при помощи понятия «натурализм». Р. Намберс объясняет, что понятие натурализма может охватывать «широкий спектр взглядов от чисто методологической приверженности объяснению действий природы без обращения к сверхъестественному, в значительной степени лишенному метафизических обозначений Бога, до философского охвата материализма, равного атеизму» [4, с. 266]. По его словам, возникновение натурализма можно считать «переоценкой взаимоотношений между естественным и сверхъестественным» [5, с. 281]. В этом противопоставлении выражается семантика рассматриваемого понятия, и особенно это заметно в английском языке, где natural означает «естественный», а supernatural – «сверхъестественный». Натуралистический подход, таким образом, предполагает исключение «сверхъестественного» как рационально непознаваемого. Используя разделение Н. Хомски, можно сказать, что натуралистический подход – это рассмотрение предмета исследования в качестве проблемы, а не непостижимой тайны [6].
С натуралистической точки зрения мир рассматривается как сложная система, компоненты которой взаимообусловлены причинно-следственными связями. Д.Э. Гаспарян указывает на то, что такой подход устанавливает каузальную замкнутость мира как одну из фундаментальных характеристик натуралистической картины мира. Она объясняет: «“Каузальная замкнутость” означает, что поток причин и следствий, во-первых, должен быть непрерывен, а во-вторых, должен иметь позади себя физическую причину, а физическая причина должна вызывать к жизни физическое следствие» [7].
Отметим, что натуралистический подход позволяет рассматривать культурный универсум в детерминистическом ключе, подчинив социальные и культурные феномены физико-биологическим условиям. Культура в таком случае определяется включением в природный континуум, а не противопоставляется ему. В этой ситуации Э. Дюркгейм, утверждая, что социальные факты могут быть объяснены только через призму других социальных фактов, является противником приведенной дефиниции.
Натурализм нередко связывают с материалистической философией, указывая на взаимообусловленность понятий природы и материи. Отметим, что термин «материя» происходит от латинского слова materia (в переводе «вещество»), которое соответствует древнегреческому ὕλη . Термин ὕλη первоначально означал «лес», т.е. буквально древесину или строительный материал. Как философская категория ὕλη появляется в аристотелевской «Метафизике» в паре с понятием μορφή [8]. В свою очередь, латинское слово materia было впервые использовано в поэме Лукреция «О природе вещей» [9]. Несмотря на неодинаковую расстановку смысловых акцентов, рассматриваемое понятие означало субстанциальное начало ( ἀρχή ) мира. Одним из наиболее значимых для развития науки воплощений материалистической идеи стал атомизм Левкиппа и Демокрита, позднее усвоенный в философии Эпикура.
Если рассматривать идею Аристотеля как взаимоотношение теоретического и эмпирического, то можно сказать, что последующая интерпретация понятий материи и формы повлияла на возникновение концепции дуализма, подразумевающей существование двух противоположных начал. Термин «дуализм» для обозначения философского направления впервые использовал Х. фон Вольф. Однако категории εἶδος и μορφή , эквивалентные по значению внематериаль-ному и материальному, появляются еще в философии Платона [10].
Классическим представителем дуализма в европейской философской традиции считается Р. Декарт. Его дуалистические принципы имели основополагающее значение для развития западной интеллектуальной культуры. Антагонизм между эмпириками и рационалистами, материалистами и идеалистами присутствовал в западноевропейской философии на протяжении всей ее истории.
Материалистическую философию в целом можно охарактеризовать с такой точки зрения: фундаментальная категория материализма самоопределяется через противопоставление идеальному, духовному началу, следовательно, классическая материалистическая концепция требует признания дуализма, при этом постулируя зависимость духовных феноменов от материального начала. Более того, с этой точки зрения спор материалистов и идеалистов – это попытка выявить онтологическую сущность объектов природного мира, поэтому материализм нередко помещают в основание естественных наук, подразумевая, что их целью является изучение свойств веществ, из которых состоят природные объекты. В этом смысле материализм может быть огра- ничен референцией к физико-химической структуре изучаемого объекта, однако и это определение является проблематичным в связи с новыми концепциями в современной физике [11]. Кроме того, многие исследователи и философы обнаруживают тесную связь квантовой физики с метафизическими и феноменологическими подходами [12], поэтому нельзя однозначно сказать, что вместе с кризисом классической метафизики дуализм исчез, а материализм занял передовую позицию в современной интеллектуальной культуре. Напротив, современные философы стремятся к переосмыслению дуализма и «чистого» (по выражению Ч. Броуда) материализма и даже их преодолению. Также отметим, что в современной мысли духовно-материальная оппозиция артикулируется преимущественно при помощи понятий психических процессов и физических состояний в контексте психофизической проблематики, изначально поставленной Р. Декартом.
Некоторые исследователи считают, что противопоставление материи и духа в современной философии является по большей части гносеологической проблемой, носящей языковой характер, а не онтологический [13]. Начиная с середины ХХ в. в аналитической философии осуществляется попытка преодоления картезианского дуализма путем редукции ментальных феноменов к лингвистическим, что обусловлено влиянием позднего творчества Л. Витгенштейна, традицией американского прагматизма и взглядами ряда аналитических философских школ. Так, например, У. Куайн писал: «Когда философ натуралистического склада обращается к философии духа, он обязан говорить о языке» [14, c. 185]. Г. Райл критиковал картезианский рационализм, или «миф Декарта», называя его дуалистическую концепцию «дух в машине» («ghost in the machine») [15]. Он считал, что ментальные процессы должны быть проанализированы в терминах действий и языка.
В рамках такого подхода ментальное и физическое квалифицируется в качестве определенных языковых модусов, посредством которых может быть дано описание мира. Эту стратегию можно считать продолжением антиметафизической программы логического позитивизма, возникновение которого связано с деятельностью Венского кружка (конец 1920-х – середина 1930-х гг.). Представители Венского кружка (М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат, Ч. Моррис, К. Поппер и др.) были озадачены проблемой восстановления единства научного знания [16], поэтому выработали концепцию единого языка науки. Главная идея состояла в том, чтобы ограничить ученого в научных высказываниях рамками наблюдаемых свойств и отношений вещей, тогда как описание и верификация описания духовных феноменов с этой точки зрения не представляются возможными и, следовательно, должны быть элиминированы.
С точки зрения критики метафизических программ физикализм рассматривается как единственный основательный подход к описанию объектов окружающего мира. Центральные принципы физикализма служат базовыми для естественных наук и отражают некоторые формалистские тенденции в современной философии. Наиболее радикальной концепцией в этом смысле считается аномальный монизм Д. Дэвидсона, где физические и ментальные феномены отождествлены [17]. Также крайний физикализм выражен в таком философском направлении, как эли-минативный материализм (элиминативизм). Термин «элиминативизм» был сформулирован в 1968 г. Д. Корнманом в статье «Об элиминации “ощущений” и ощущений» [18]. Отдельные идеи этого направления можно обнаружить в сочинениях разных аналитических философов ХХ в. и современности, в том числе Ч. Броуда, У. Селларса, У. Куайна, П. Фейерабенда, Р. Рорти, П. Черчланда, С. Стича и др.
В своих работах современные материалисты выдвигают ряд аргументов в пользу отказа от так называемой народной, или «фолк-психологии» (folk psychology), «психологии здравого смысла» (common sense psychology). Само понятие народной психологии возникло в связи с указанием на когнитивную способность человека объяснять и предсказывать поведение и ментальные состояния других людей. Главный тезис элиминативизма состоит в том, что такие понятия народной психологии, как, например, «верования» и «желания», не годятся для научного описания и должны быть исключены из научного языка, поскольку пропозиции психологии здравого смысла, согласно этой философии, противоречат данным нейробиологии. Исходя из этого эли-минативизм прямо отрицает существование ментальных феноменов, тотально редуцируя все пропозиции к нейробиологическим процессам, что соответствует современным трендам развития когнитивных и нейронаучных подходов в современной науке [19].
Одним из популярных направлений в рамках аналитических подходов к проблеме психофизического тождества является функционализм [20], интерпретирующий психику в терминах причинно-следственных взаимосвязей между психическими состояниями, сенсорными процессами и поведенческими выходами. В некотором смысле функционализм сближается с бихевиористским подходом, однако сфера его интереса выходит за рамки простой фиксации стимулов и реакций как наблюдаемых событий; представители этой школы стремятся к познанию внутренних закономерностей психики. Многие положения функционализма используются, в частности, для объяснения природы религиозных верований [21].
Итак, если аналитическая философия стремится к формализации и сциентизации знания о человеке, то представители иных направлений в современной философии, напротив, расширяют компетенции гуманитарных подходов, используя этнографические, политические, герменевтические, семиотические подходы для исследования взаимоотношений человека и биосферы. Здесь артикулируется постмодернистская риторика преодоления антропоцентризма, человеческой исключительности [22], производятся смещение фокуса с человеческого на «не-че-ловеческое» и выстраивание симметричных отношений между этими модусами (см., например, [23]). Одним из интеллектуальных проектов такого рода, например, является «антропология по ту сторону человека», или «антропология жизни» Э. Кона. Он пишет: «Современная социальнокультурная антропология во всех своих формах, которые практикуются сегодня, рассматривает сугубо человеческие явления – язык, культуру, общество, историю, – разрабатывая с их помощью инструментарий для познания человека. В этом процессе объект анализа оказывается изоморфен (совпадает по форме) самому аналитическому подходу <…> Этнографический фокус, направленный не только на людей и животных, но также на связи между ними, разорвет замкнутый круг, в котором мы оказываемся, когда пытаемся понять отличительные черты человека с помощью исключительно человеческих понятий» [24, c. 35].
В подтверждение этим тезисам Ф. Дескола подчеркивает постколониальный характер новых подходов к исследованию человека и природы, указывая на то, что взаимоисключающие отношения между культурой и природой являются маркерами западноевропейской цивилизации [25]. В этом смысле классическая новоевропейская научная модель воспринимается со скепсисом. Б. Латур предпочитает говорить вовсе об освобождении знания от строгой новоевропейской науки [26].
Во второй половине ХХ в. на фоне философских дискуссий по проблеме интеграции знания о человеке формируются новые научные направления, демонстрирующие потенциал к концептуальному объединению гуманитарных и естественных наук. При этом можно отметить, например, дисциплины, объединенные в комплекс когнитивистики как отдельной научной области, изучающей принципы человеческого мышления в связи с его нейробиологическими коррелятами. В данном ключе человеческая культура рассматривается через призму психофизиологических детерминантов, и такой дискурс вмещает в себя интегративные объяснения феноменов культуры на стыке нейробиологии, когнитивной лингвистики, психологии, антропологии, исследований искусственного интеллекта и т.д. Кроме того, примерами интегративного подхода к изучению человеческой культуры являются социобиология [27], этология человека [28], эволюционная психология [29] и другие дисциплинарные решения.
Вместе с тем в контексте поиска нового языка науки начиная с 1990-х гг. происходит переориентация подходов к изучению религии. Здесь, во-первых, стоит отметить принципиальную ориентацию на натуралистическое объяснение религии как неотъемлемой части естественной человеческой истории [30]. С этой точки зрения религиозные представления репрезентированы в качестве продукта психической эволюции человека [31]. Этим дискурсом объединены два современных направления – когнитивное и эволюционное религиоведение, рассматриваемые чаще всего как части одной аналитико-экспериментальной программы.
Кроме того, интегративные тенденции реализуются в методологических подходах, используемых в современных исследованиях религии. Здесь, в частности, применяются неинвазивные медицинские технологии [32], а также вычислительные методы для статистической обработки данных. Прикладная роль гуманитарного исследователя в междисциплинарном научном проекте такого рода определяется аналитико-нарративным подходом, который заключается в систематизации и репрезентации историко-социологического материала таким образом, чтобы информация могла быть переведена в формальные данные. По мнению исследователей, формальный подход к изучению религии в целом способен сыграть эвристическую роль, как это случалось, например, с эволюционной биологией и некоторыми другими дисциплинами в истории науки [33].
В рамках философских дискуссий по проблеме человеческой природы исследователям религии адресуются вопросы, в частности, о том, является ли религия маркером человеческой исключительности. Здесь происходит переосмысление традиционных феноменологических подходов, выделявших сущностный элемент религиозности. Сегодня обсуждение вопроса о сущности религиозного опыта не сводится к выделению его уникальных характеристик; напротив, подавляющее большинство исследователей рассматриваемых направлений в науке о религии указывают на то, что элементарные формы религиозного опыта и поведения составляют базовые для человека процессы, события или состояния [34]. В связи с этим определенные модели религиозного поведения могут быть сопоставлены с коррелирующими формами деятельности у животных, а религиозность рассматривается с точки зрения деятельности когнитивной системы.
Здесь исследователи сталкиваются с концептуальными затруднениями в отношении того, что считать религиозным опытом. Ранее разработанные типологии религиозных феноменов оказываются несостоятельными и переосмысляются, в том числе с позиции редукционизма.
Благодаря развитию интегративных направлений в науке о религии традиционный вопрос о происхождении религиозности обретает новый смысл. В современном религиоведении эта проблема рассматривается с эволюционной точки зрения, которая, однако, значительным образом отличается от классических эволюционных подходов в антропологии религии конца XIX – начала ХХ вв. Современный эволюционизм предлагает науке о религии более широкую концептуальную и методологическую площадку для исследовательского опыта. Эмпирические исследования в этой области позволили ученым сформулировать гипотезы, ассоциирующие религиозный опыт с физиологическими процессами и эволюцией, в частности, определенных структур головного мозга.
Безусловно, интегративные направления в религиоведении, учитывая специфику их философского контекста, являются в определенном смысле мировоззренческим вызовом для некоторых традиционных взглядов на взаимоотношения науки и религии. Таким образом, проблема эпистемологической перспективы религиоведения сегодня особенно нуждается в философской рефлексии.
Ссылки:
-
1. Дильтей В. Введение в науки о духе. Собрание сочинений в 6 томах / пер. с нем.; под ред. А.В. Михайлова и Н.С. Плотникова. Т. 1. М., 2000. 762 с.
-
2. Сноу Ч.П. Две культуры и научная революция // Сноу Ч.П. Портреты и размышления. М., 1985. С. 195–226.
-
3. Шелер М. Положение человека в Космосе // Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. 490 с.
-
4. Numbers L.R. Science without God: Natural Laws and Christian Beliefs // ed. by D.C. Lindberg, R.L. Numbers. When Science
and Christianity Meet. Chicago; L., 2008. С. 266.
-
5. Там же. С. 281.
-
6. Chomsky N. Reflections on language. N.Y., 1975. 269 p.
-
7. Гаспарян Д.Э. Позиции дуализма в современных антифизикалистских стратегиях аналитической философии сознания // Vox. Философский журнал. 2013. № 15. С. 142–170.
-
8. Аристотель. Метафизика. М., 2019. 336 с.
-
9. Тит Лукреций Кар. О природе вещей / пер. с лат. Ф. Петровского. М., 1983. 383 с.
-
10. Платон. Парменид, или об идеях. Полное собрание сочинений в одном томе / пер. С.Я. Шейнман-Топштейн, М. Со
ловьева, В. Карпова, А.Н. Егунова, С. Кондратьева, С.М. Ананьина. М., 2013. 1311 с.
-
11. Пенроуз Р. Мода, вера, фантазия и новая физика Вселенной / пер. А. Пасечник, О. Сивченко. СПб., 2020. 512 с.
-
12. Капра Ф. Дао физики. Исследование параллелей между современной физикой и восточной философией / пер. М. Попова; под ред. Н. Шульпиной. М., 2017. 368 с.
-
13. Никоненко С.В. Форма и материя // Энциклопедия эпистемологии и философии науки / под ред. И.Т. Касавина. М., 2009. 1248 с.
-
14. Quine W.V.O. Ontological Relativity // The Journal of Philosophy. 1968. Vol. LXV, № 7. P. 185–212.
-
15. Райл Г. Понятие сознания. М., 1999. 408 с.
-
16. The International Encyclopedia of Unified Science. Chicago, 1938. Vol. 1. Foundations of the unity of science. Nos. 6–10. 438 p.
-
17. Davidson D. Mental Events // Essays on Action and Events. N.Y., 2001. 255 р.
-
18. Cornman J.W. On the Elimination of «Sensations» and Sensation // The Review of Metaphysics. 1968. Vol. 22, No. 1. Рр. 15–35.
-
19. Churchland P.S. Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain. London, 1989. 489 p.
-
20. Dennet D.C. Consciousness Explained. Boston, 1991. 511 p. ; Fodor J.A. The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology. Cambridge; Mass., 1983. 145 p.
-
21. Dennet D.C. Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon. N.Y., 2006. 448 p.
-
22. Шеффер Ж.-М. Конец человеческой исключительности / пер. с фр. С.Н. Зенкина. М., 2010. 390 с.
-
23. Опыт нечеловеческого гостеприимства: Антология / под ред. М. Крамара, К. Саркисова. М., 2018. 336 с.
-
24. Кон Э. Как мыслят леса. Антропология по ту сторону человека / пер. А. Боровиковой. М., 2000. 344 c.
-
25. Дескола Ф. По ту сторону природы и культуры. М., 2012. 584 с.
-
26. Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб., 2006. 240 с.
-
27. Wilson E.O. Sociobiology: The New Synthesis. Harvard, 1975. 720 p.
-
28. Eibl-Eibesfeldt I. Human Ethology. London; N.Y., 2017. 848 p.
-
29. Barkow J.H., Cosmides L., Tooby J. The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. N.Y., 1992. 666 p.
-
30. Dennet D.C. Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon.
-
31. Буайе П. Объясняя религию. Природа религиозного мышления / пер. с фр. М., 2017. 496 с. ; Atran S. In Gods We Trust. The Evolutionary Landscape of Religion. Oxford, 2002. 348 p.
-
32. Schjoedt U. The Religious Brain: A General Introduction to the Experimental Neuroscience of Religion // Method and Theory in the Study of Religion. 2009. Vol. 21. Iss. 3. P. 310–339.
-
33. Турчин П.В. Теории и модели эмпирического исследования исторической динамики // История и современность. 2008. № 2. С. 10–33.
-
34. Taves A. Religious Experience Reconsidered: A Building-Block Approach to the Study of Religion and Other Special Things. Princeton, 2009. 212 p.
Редактор: Фетисова Ирина Викторовна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович
Список литературы Современные исследования религии в контексте философской проблемы интеграции знания
- Дильтей В. Введение в науки о духе. Собрание сочинений в 6 томах / пер. с нем.; под ред. А.В. Михайлова и Н.С. Плотникова. Т. 1. М., 2000. 762 с
- Сноу Ч.П. Две культуры и научная революция // Сноу Ч.П. Портреты и размышления. М., 1985. С. 195-226
- Шелер М. Положение человека в Космосе // Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. 490 с
- Numbers L.R. Science without God: Natural Laws and Christian Beliefs / ed. by D.C. Lindberg, R.L. Numbers. When Science and Christianity Meet. Chicago; L., 2008. С. 266
- Numbers L.R. Science without God: Natural Laws and Christian Beliefs // ed. by D.C. Lindberg, R.L. Numbers. When Science and Christianity Meet. Chicago; L., 2008. С. 281.