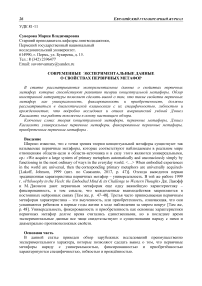Современные экспериментальные данные о свойствах первичных метафор
Автор: Суворова Мария Владимировна
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Общие вопросы языкознания
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются экспериментальные данные о свойствах первичных метафор, которые способствуют развитию теории концептуальной метафоры. Обзор иностранной литературы позволяет сделать вывод о том, что такие свойства первичных метафор, как универсальность, фиксированность и приобретенность, должны рассматриваться в диалектической взаимосвязи с их специфичностью, гибкостью и врожденностью, что подробно исследовал и описал американский учёный Дэниел Касасанто, чьи работы положены в основу настоящего обзора.
Теория концептуальной метафоры, первичные метафоры, дэниел касасанто, универсальные первичные метафоры, фиксированные первичные метафоры, приобретенные первичные метафоры
Короткий адрес: https://sciup.org/147229789
IDR: 147229789 | УДК: 81-11
Текст научной статьи Современные экспериментальные данные о свойствах первичных метафор
Широко известно, что с точки зрения теории концептуальной метафоры существуют так называемые первичные метафоры, которые соответствуют наблюдаемым в реальном мире отношениям области-цели и области-источника и в силу этого являются универсальными, ср.: «We acquire a large system of primary metaphors automatically and unconsciously simply by functioning in the most ordinary of ways in the everyday world. <…> When embodied experiences in the world are universal, then the corresponding primary metaphors are universally acquired» [Lakoff, Johnson, 1999 (цит. по Casasanto, 2017, р. 47)]. Отсюда выводится первая традиционная характеристика первичных метафор – универсальность. В той же работе 1999 г. « Philosophy in the Flesh: the Embodied Mind & its Challenge to Western Thought» Дж. Лакофф и М. Джонсон дают первичным метафорам еще одну важнейшую характеристику – фиксированность, в том смысле, что междоменные взаимодействия закрепляются в постоянных нейронных связях [Там же, р. 47–48]. Третья часто приписываемая первичным метафорам характеристика – это выученность, или приобретенность, означающая, что они усваиваются ребенком в первые годы жизни в ходе наблюдения за миром вокруг [Там же, р. 48]. Универсальность, фиксированность и приобретенность как основные характеристики первичных метафор долгое время считались единственными, но в последнее время экспериментальные данные все чаще свидетельствуют о существовании наряду с ними и диаметрально противоположных свойств.
Основная часть
В данной статье приведен обзор зарубежных исследований преимущественно экспериментального характера, которые позволяют сделать вывод о том, что первичные метафоры наряду с универсальностью, фиксированностью и приобретённостью характеризуются специфичностью, гибкостью и врождённостью.
Аргументы против универсальности первичных метафор
Чем больше накапливается данных о метафорах в различных языках, тем сложнее утверждать, что те или иные метафоры являются универсальными. Американский ученый Д. Касасанто делит наблюдаемые различия на три уровня: межъязыковые, кросс-культурные и индивидуальные [Casasanto, 2017].
Межъязыковые различия очевидны в случае метафоры PITCH AS HEIGHT, свойственной многим языкам, например, голландскому, английскому и др., и PITCH AS THICKNESS -свойственной языку фарси [Casasanto, 2010; Dolscheid et al., 2011; Dolscheid et al., 2013]. Межъязыковые различия также имеют место при осмыслении длительности в понятиях длины (английский и индонезийский языки) и в понятиях количества (греческий и испанский языки) [Casasanto et al., 2004].
Многие могли бы сказать, что языком должны быть обусловлены и кросс-культурные различия, однако сегодня исследователи предлагают способ отделить влияние языка от влияния культуры – изучать в кросс-культурном аспекте лишь те метафоры, которые не находят выражения в языке, например, латеральную ментальную ось времени. Последняя проявляется в спонтанной жестикуляции [Casasanto, Jasmin, 2012] и имеет разное направление в зависимости от того, какой тип письма принят в той или иной культуре: у носителей английского языка, в котором принято писать и читать слева направо, латеральная ось направлена, соответственно, слева направо, а у носителей арабского языка, привыкших читать и писать справа налево, направление латеральной оси обратное [Casasanto, Jasmin, 2012; Tversky, Kugelmass, Winter, 1991].
Более того, было обнаружено, что даже сагиттальная ментальная ось времени, которая отражена во многих языках и, казалось бы, обязана быть универсальной, поскольку глубоко укоренена во взаимодействии человека и пространства [Clark, 1973], может менять направление в зависимости от наличия в культуре культа прошлого [de la Fuente et al., 2014; Casasanto, 2016]. Носители одного из диалектов марокканского арабского языка считают, что будущее находится позади, а прошлое впереди, несмотря на то, что конвенциональные метафоры этого диалекта предполагают обратное: «Darija speakers’ “backward” mapping of time does not appear to arise from any feature of their language, or from their physical experience with the natural world, but rather from their cultural bias to focus on the past (i.e., to value their ancestry and practice ancient traditions)» [Casasanto, 2016, р. 169]. Такие же результаты дало исследование метафоры времени во вьетнамском языке: в нём будущее расположено за спиной говорящего, движется по направлению к нему и уходит вперед в прошлое, что проявляется и в языке, и в жестикуляции [Sullivan, Bui, 2016].
Наконец, индивидуальные различия предполагают несходство междоменных связей у представителей одной лингвокультуры и часто касаются лево- и праворуких людей. Было установлено, например, что от ведущей руки зависит аксиологическая оценка пространства: у праворуких людей позитивная оценка связана с правой стороной собственного тела и пространства, а у леворуких – левая, что подтвердили эксперименты как со взрослыми людьми, так и с детьми [Casasanto, 2009]. В некоторых случаях в течение жизни наблюдается смена ведущей руки, например, при повреждении головного мозга в результате одностороннего инсульта, что влечёт за собой соответствующие изменения в мышлении [Casasanto, Chrysikou, 2011].
Широкое распространение получили также исследования, посвящённые индивидуальным различиям в доминировании одной из двух моделей осмысления времени – MOVING TIME и MOVING EGO, которые показали, что метафоры обеих групп небезразличны к психологическим особенностям говорящих. Сара Даффи и Мишель Файст установили, что существует связь между концептуализацией времени и прокрастинацией: прокрастинаторы предпочитают модель MOVING EGO, что проявляется как в интерпретации двусмысленных высказываний о времени, так и в поведении [Duffy, Feist, 2014; Duffy et al., 2014]. Эксперимент Ская Марголиса и Элизабет Кроуфорд показал, что заставить выбирать ту или иную модель взаимодействия человека и времени могут и личные переживания: «Participants who imagined a negative event were more likely to report that the event was approaching them, whereas those who imagined a positive event were more likely to report that they were approaching the event» [Margolies, Crawford, 2008, р. 1401]. Тот факт, что оценка события как хорошего или плохого связана с метафорическим осмыслением времени, особенно интересен потому, что аксиологическую оценку, как было сказано выше, чаще исследуют в контексте лево- и праворукости и соответствующей латеральной оси.
Таким образом, отличия междоменных взаимодействий, действительно, могут быть найдены на трех уровнях: межъязыковом, кросс-культурном и индивидуальном. Следует заметить, однако, что в данном случае уместнее говорить о диалектической взаимосвязи универсальности и специфичности, нежели стремиться абсолютизировать различия. Более того, ошибочным будет полагать, что межъязыковые, кросс-культурные и индивидуальные различия легко обнаружить в отношении любой выбранной метафоры. В 2015 г. Д. Касасанто и его коллеги сообщили о результатах исследования, в котором предполагалось установить, влияют ли на аксиологическую оценку пространства слева и справа от говорящего нормы культуры. Для сравнения были выбраны Испания и Марокко. Хотя религиозные убеждения марокканцев и формируют сильное предубеждение против левой руки, которое они часто высказывают эксплицитно, никаких значимых отличий между марокканцами и испанцами в ходе эксперимента на имплицитное влияние предпочтений к правой стороне установлено не было [de la Fuente et al., 2014, 2015, 2015а].
Аргументы в пользу гибкости метафорического мышления
Как было отмечено во введении, традиционно считается, что междоменные взаимодействия являются фиксированными и, однажды сформировавшись, не изменяются в течение жизни. Тем не менее, несколько экспериментов, проведённых Дэниелом Касасанто, Сарой Дольшайд и их коллегами, показывают, что в экспериментальных условиях метафоре можно «научить» (авторский глагол “to train”) [Casasanto, 2008; Dolscheid et al., 2011; Dolscheid et al., 2013]. На протяжении последних полутора десятилетий учёные работали с двумя группами метафор – метафорами времени и метафорами высоты звука – и систематически сообщали о результатах своих исследований научной общественности.
В диссертации Perceptual foundations of abstract thought (2005) и в статье Who’s afraid of the Big Bad Whorf? Cross-linguistic differences in temporal language and thought (2008) Д. Касасанто сообщает о результатах эксперимента, в котором носители английского языка (языка, в котором преобладает осмысление времени в категориях длины) прошли специальный тренинг по употреблению слов more (больше) и less (меньше) для описания продолжительности периода времени, а затем выполнили задание на измерение промежутка времени, в котором проверялось влияет ли на точность измерения интерференция нерелевантной визуальной информации – изображения контейнера, заполняющегося водой. На тот момент уже было известно, что, если никакого предварительного тренинга не проводится, то на оценку продолжительности носителями английского языка изображение контейнера разной степени наполненности практически не влияет, однако, влияет изображение растущей линии [Casasanto et al., 2004]. После тренинга интерференция визуальной информации о контейнере проявилась также интенсивно, как при тестировании носителей греческого языка, в котором в осмыслении времени преобладают метафоры количества [Casasanto, 2005; Casasanto, 2008].
Через несколько лет было установлено, что интерференция визуальной информации имеет место и при оценке высоты звука: для носителей английского языка концептуальная метафора соответствует метафоре в языке – разные частоты соответствуют положению на вертикальной оси в диапазоне «низко – высоко» [Casasanto, 2010]. Работая с метафорами высоты звука, Сара Дольшайд и ее коллеги провели эксперименты с носителями голландского языка и языка фарси: в голландском языке доминирует метафора высоты, а в языке фарси – метафора толщины. В одном из экспериментов учёные сравнили интерференцию визуальной информации при оценке высоты звука носителями указанных языков: одновременно со звуком демонстрировались либо вертикальные линии разной высоты, либо вертикальные линии разной толщины – и пришли к выводу о том, что наблюдаемая интерференция зависит от метафор, характерных для языка, носителем которого являются испытуемые [Dolscheid et al., 2011; Dolscheid et al., 2013]. В этом случае результаты оказались схожи с описанными выше результатами, полученными Д. Касасанто при изучении метафор длительности.
В другом эксперименте носители голландского языка прошли тренинг, подобный тому, что проходили носители английского языка в эксперименте, посвящённом метафорам времени, – они учились описывать высоту звука, используя слова dunner (тоньше) и dicker (толще), а затем оценивали высоту слышимого звука в присутствии визуальных стимулов – вертикальных линий разной толщины. Как и в эксперименте с метафорами времени, после непродолжительного тренинга в условиях эксперимента носители голландского языка перестали быть способны игнорировать нерелевантную информацию о толщине линии при оценке высоты звука [Там же].
Ещё одним направлением исследований данной группы стало изучение того, возможно ли в экспериментальных условиях изменить направление ментальной оси времени с помощью чтения текстов, написанных в нестандартной орфографии. В эксперименте с вербальным стимулом и невербальным ответом было показано, что возможно временно перевернуть ментальную ось времени на 90° и 180° в зависимости от того, в каком направлении подаётся текст стимулов – вертикально вниз, вертикально вверх или в зеркальном отражении [Casasanto, Bottini, 2014].
Важнейшей особенностью данных исследований является то, что они представляют собой серии экспериментов, позволяющих проследить наличие той или иной метафоры сначала в языке, а затем в мышлении. Примечательно, что эксперименты, посвященные метафорам в мысли, являются психофизическими и чаще всего не опираются на язык – либо только ответы респондентов, либо и стимулы, и ответы невербальны. Отсюда можно заключить, что эксперименты Д. Касасанто и С. Дольшайд действительно показывают, каким образом язык может повлиять на мышление (low-level mental processes) и невербальное поведение испытуемых. В контексте изучения метафоры они доказывают, что те или иные междоменные взаимодействия могут быть активированы путём тренинга.
Тем не менее, попытки экспериментально воздействовать на мышление испытуемых подобным образом не всегда успешны. Так, Д. Касасанто, исследуя ментальную числовую линию, пришёл в выводу, что чтение текста, строки которого направлены в несвойственном выбранной культуре направлении, в экспериментальных условиях влияющее на направление ментальной оси времени, на направление ментальной числовой линии не воздействует [Pitt, Casasanto, 2016]. При этом ранее исследователем было установлено, что направление ментальной числовой линии зависит от того, как человек считает на пальцах – слева направо или справа налево [Pitt, Casasanto, 2014].
Ещё одной причиной, по которой возможно изменение междоменных взаимодействий в течение жизни, является временная или постоянная потеря ведущей руки или её функциональности, о чём выше уже говорилось в контексте индивидуальных различий первичных метафор [Casasanto, Chrysikou, 2011].
Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что гибкость метафорического мышления можно обнаружить, лишь зная, каковы корни изучаемой метафоры: язык, культура или движения тела. Исследования Д. Касасанто показали, что те метафоры, истоки которых обнаружены в право- и леворукости и в других способах взаимодействия тела с пространством, подвержены только изменениям на соответствующем уровне, в то время как попытки воздействовать на них способами, связанными, например, с культурой не увенчиваются успехом. В этом, возможно, и кроется причина того, что гибкость метафорического мышления изначально было трудно обнаружить.
Аргументы в пользу врожденности первичных метафор
Существуют эксперименты, которые, по мысли их авторов, доказывают, что первичные метафоры могут быть врожденными. Среди исследователей, которые работают в этом направлении, нужно назвать Марию Долорес дэ Хэвиа (Университет Париж Декарт, Франция), Шейду Озчалишкан (Университет Джорджия, США), Маейеша Шринивасана (Университет Беркли, Калифорния, США) и Сьюзан Кери (Гарвардский университет, США).
Исследования Ш. Озчалишкан показывают, что восприятие метафор зависит от возраста. В сотрудничестве с Лорен Ститс исследователь изучила восприятие метафор времени детьми разного возраста и выявила, что к трем годам дети научаются понимать основное, то есть пространственное, значение лексических единиц, входящих в метафоры времени (a long way, to come up, to follow), и это понимание не изменяется со временем; к пяти годам дети уже понимают метафоры времени, входящие в модели MOVING TIME (His trip to the zoo is coming up) и MOVING EGO (He has a long way to go until his party), кроме того, они начинают понимать метафоры последовательности (Ice cream follows lunch), но хуже, иначе говоря, понимание метафор последовательности формируется чуть позже в промежутке между пятью и шестью годами; общий вывод о выявленных закономерностях авторы формулируют так: «Children steadily improved their metaphor comprehension over time, with a significant change between ages five and six» [Stites, Özçalişkan, 2013, р. 1131]. Рубеж в шесть лет важен не только для понимания метафоры – дети начинают понимать метафоры так же, как взрослые – но и для способности объяснять значение метафорических высказываний о времени (в указанном возрасте она находится на одном уровне с соответствующей способностью взрослых) [Там же].
Факт того, что понимание метафор зависит от возраста, перемещает фокус внимания исследователей с фиксированного результата – сформировавшихся междоменных взаимодействий – на процесс его получения. Чтобы изучить этот процесс во всей его полноте, ученые начинают с возраста гораздо более раннего, чем три года.
М. Шринивасан и С. Кери работали с девятимесячными детьми, проверяя, связаны ли в их мышлении репрезентации длины и длительности. Проведенный ими эксперимент показал, что уже в возрасте девяти месяцев человек способен установить сходство между длиной и длительностью [Srinivasan, Carey, 2010]. Из полученных результатов ученые делают важный вывод о том, что функциональное наложение ментальных репрезентаций длины и длительности не является результатом воздействия языка на мышление в онтогенезе: «The present studies show that experience with and mastery of words like long and short does not create the functional overlap between representations of length and duration, as it is also present in 9-month-old infants» [Srinivasan, Carey, 2010, р. 52].
Если девятимесячный возраст, хоть и является очень ранним, уже позволяет накопить определенный опыт взаимодействия с миром, что может потенциально стать контраргументом к данному утверждению, М. де Хэвиа представляет доказательства того, что наблюдаемые М. Шринивасаном и С. Кери проекции длины на длительность можно обнаружить уже у новорожденных. Исследование, проведенное с младенцами в возрасте трех дней, дало такие же результаты, как описанный выше эксперимент с девятимесячными детьми, позволило распространить выводы на репрезентации числа, а также показало, что реакцию вызывает лишь совпадение величин, то есть одновременное увеличение и длины, и длительности: «At the beginning of postnatal life, 0- to 3-d-old neonates reacted to a simultaneous increase (or decrease) in spatial extent and in duration or numerical quantity, but they did not react when the magnitudes varied in opposite directions» [De Hevia et al., 2014]. По мысли М. де Хэвиа, полученные результаты однозначно свидетельствуют о том, что данная взаимосвязь не может быть объяснена ни влиянием языка, ни воздействием культуры, ни опытом взаимодействия с окружающим миром [Там же].
Помимо взаимосвязи доменов времени и пространства подобным образом исследовалось метафорическое осмысление высоты звука. Сара Дольшайд и её коллеги, о работах которых мы уже говорили, установили, что четырёхмесячные дети чувствительны к соответствию аудиовизуальных стимулов метафорическому осмыслению высоты звука [Dolscheid et al., 2014]. Наиболее интересно то, что, несмотря на единую национальную принадлежность (все младенцы, участвовавшие в эксперименте, являются голландцами), дети в четыре месяца не демонстрируют предпочтения ни к метафоре PITCH IS HEIGHT, ни к метафоре PITCH IS THIKNESS [Там же].
Подводя итог, можно сказать, что успешные попытки обнаружить определенные междоменные взаимодействия в мышлении младенцев дают возможность считать метафорическое мышление, так или иначе, врожденным, тем самым, углубляя наши представления о сущности и роли первичных метафор. Перед исследователями сегодня встает вопрос об определении границ врожденности и приобретенности данных междоменных взаимодействий и о роли языка, культуры и сенсомоторного опыта в их формировании.
Заключение
Рассмотренные в данном обзоре исследования очерчивают границы универсальности, фиксированности и приобретенности первичных метафор. При определенной постановке исследовательской проблемы можно экспериментально определить, в каких условиях первичные метафоры демонстрируют языковую, культурную и индивидуальную специфичность, гибкость или даже способность полностью изменяться под воздействием жизненного опыта человека, а также врожденность. Небольшое количество имеющихся на данный момент экспериментальных данных о врожденности первичных метафор, а также тот факт, что некоторые гипотезы, выдвигаемые в подобных исследованиях, оказываются опровергнутыми, предостерегают от абсолютизации специфичности и изменчивости и обозначают необходимость дальнейшего исследования диалектических отношений универсальности и специфичности, фиксированности и гибкости, врожденности и приобретенности первичных метафор.
Список литературы Современные экспериментальные данные о свойствах первичных метафор
- Casasanto D., Boroditsky L., Phillips W., Greene J., Goswami S., Bocanegra-Thiel et al. How deep are effects of language on thought? Time estimation in speakers of English, Indonesian, Greek, and Spanish // Proceedings of the 26th Annual Conference Cognitive Science Society. Austin, TX: Cognitive Science Society, 2004. Р. 575-580.
- Casasanto D. Perceptual foundations of abstract thought. (Doctoral dissertation). Department of Brain & Cognitive Sciences. MIT, Cambridge, MA, 2005. 88 p.
- Casasanto D. Who's afraid of the Big Bad Whorf? Cross-linguistic differences in temporal language and thought // Language Learning. 2008. № 58(1). P. 63-79.
- Casasanto D. Embodiment of abstract concepts: Good and bad in right- and left-handers // Journal of Experimental Psychology: General. 2009. № 138(3). P. 351-367.
- Casasanto D. Space for thinking // Language, cognition, and space: State of the art and new directions. V. Evans & P. Chilton (Eds.). London: Equinox Publishing, 2010. Р. 453-478.