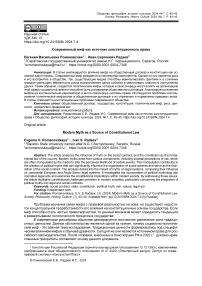Современный миф как источник конституционного права
Автор: Романовская Евгения Васильевна, Радаев Иван Сергеевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется влияние мифа на общественный договор и конституцию как основной закон страны. Современный миф рождается из множества компонентов. Одним из них является риск и его восприятие в обществе. Так, существующие медиа способны манипулировать фактами и в сознании граждан уменьшать вероятность риска возникновения одних событий и увеличивать опасность наступления других. Таким образом, создаются политические мифы, которые в свою очередь могут влиять на организацию этой сферы социальной жизни и способны быть основанием общественного договора. Анализируется влияние мифов на континентально-европейскую и англо-саксонскую системы права. Исследуются проблемы использования политической мифологии в общественном договоре и их отражение в нормативно-правовых актах. В статье отмечаются конституционные проблемы современного общества.
Общественный договор, государство, конституция, политический миф, риск, ценности, нормативно-правовой акт
Короткий адрес: https://sciup.org/149145576
IDR: 149145576 | УДК: 340.13 | DOI: 10.24158/fik.2024.7.4
Текст научной статьи Современный миф как источник конституционного права
Проблема изучения связи мифа с правовой реальностью не нова, но существует недостаток концептуальной проработанности его влияния на конституционные основы государства. Если миф способен стать частью правотворчества, то данный механизм может определять тенденции в развертывании политического процесса в государстве.
В современном российском обществе декларируется постоянное увеличение роли традиционных ценностей. Данное обстоятельство является одной из причин, почему социально-политический миф – это важная тема исследования. Традиционные ценности формировались под специфическим влиянием мифов и обычаев древности. Сегодня же они являются источником права для российского законодательства. После поправок, внесенных в Конституцию РФ в 2020 г.1, духовно-нравственные приоритеты составляют основу данного документа.
Обратимся к определению мифа А.Ф. Лосева, так как оно ярко иллюстрирует восприятие его как особой формы выражения чувств, подчеркивая невыдуманную и необходимую природу: «Миф представляет собой наивысшую степень конкретности, максимально интенсивную и напряженную реальность. Он не является выдумкой, а, скорее, представляется самой яркой и подлинной действительностью. Миф – это совершенно необходимая категория мышления и жизни, отчужденная от случайности и произвола» (Лосев, 2008). Итак, это реальность, в рамках которой мыслит человек. Несомненно, данное понимание мифа оказывает влияние на формирование общества и его институтов.
Ф. Куланж считал миф средством объединения и консолидации общества (Куланж, 1906).
Индоевропейская языческая религия, греческая или древнегерманская, происходит из одного корня. Древние культуры этого типа имели общие архетипические мифы, чуждые, например, первой китайской культуре и её религии. Постепенно племенные сообщества развивались, а вместе с ними и их верования. Вначале у каждой «семьи» был свой бог, а общего не было. При слиянии племен появлялись единые боги, а вместе с ними и мифы, которые служили средством осуществления общественного договора за счет консолидирующей и интегрирующей функции. Так, например, язычество не могло создать общее духовное пространство, поскольку сама его природа не скрепляет индивидов, а разъединяет. Например, каждый полис имел свою сумму мифов, пусть и похожих, но разных. Известен пример Гесиода и Гомера, которые, используя одних и тех же героев, описывали разные мифы. История же о Трое стала общенациональной, поскольку ее содержание говорит об объединении архаичной Греции ради общей цели.
Другой пример. Христианство было необходимо властям для того, чтобы создать единое духовное пространство и скрепить государство верой в общего для всех граждан Бога. Оно пришло на смену кризисной полисной языческой религии и объединило собой все европейское пространство, создав благоприятные условия для возникновения общественных институтов и политических структур. Страны, проповедовавшие веру Христа, принимали одинаковые законы, имели похожую структуру, а также входили в состав единого духовного пространства, не теряя своей индивидуальности. Концепции государственной власти, справедливости и прав человека основывались на христианских ценностях. Монастыри и церковные учебные заведения играли важную роль в сохранении знаний (копировании древних текстов) и развитии образования в Средние века. Многие из первых университетов были основаны именно Церковью. Кроме того, монахи внесли значительный вклад в развитие европейской науки. Концепция естественных прав, например, разработанная христианским философом Фомой Аквинским, легла в основу средневекового законодательства1.
Таким образом, следует говорить о том, что мифы стали базой для возникновения общественных договоров, которые в свою очередь способствовали созданию государств .
Разберем сущность такого рода документов. В основании их лежит некая негласная договоренность между государством и обществом о границах, правах, организации взаимоотношений. Если обратить внимание на три основных теории общественного договора, то можно отметить, что у их авторов было разное понимание в целом данной концепций. Так, например, для Т. Гоббса общественный договор – это не что-то идеализированное, а, по сути, вынужденное зло. Таким образом, мыслитель вручал полную власть над народом в руки государства. Он смотрел на общественный договор с практической точки зрения как на средство против губительной анархии (Гоббс, 1936). Д. Локк же рассматривал общественный договор как идеализированную модель. В его понимании он имеет сакральное значение и нарушение его со стороны одного из акторов дает полноту власти другому. Например, во второй части «Двух трактатов о правлении» можно найти упоминание о праве на восстание, если государство посягает на свободу и собственность человека (Локк, 1988). Но все же, по нашему мнению, правильно было бы выделить идеи Ж.Ж. Руссо, согласно которому общественный договор подразумевается не как что-то идеализированное или статичное, а как динамическая структура. Более того, Ж.Ж. Руссо в своей теории отдал главную роль в принятии решений народу. Под ним философ подразумевал общество равных людей: «Все они понимают обязательства на одних и тех условиях, и все пользуются одинаковыми правами» (Руссо, 1998: 293). Таким образом, высшая власть определяется на референдуме равных людей. Подобная форма правления не является чем-то уникальным в истории. Например, Аристотель характеризовал Карфаген как государство, где решения принимаются на плебисците (Аристотель, 2012).
Итак, на основании сложившихся юридических действующих систем можно выделить две системы права – англо-саксонскую, наследницу феодального права, и континентальную, разработанную в Европе на основе римского права. Они разделены они по территориальному и историческому признаку. Кроме того, данные парадигмы общественного договора послужили основами для создания конституций разных стран как формализованного общественного акта.
В англосаксонской системе конституция имеет статус сакрального текста, поэтому изменить ее сложно. Отцы – основатели США вдохновлялись идеями Д. Локка, в то время как на континентально-европейскую конституцию оказали свое влияние французские мыслители Просвещения, продвигавшие идеи античной демократии. Данная система права динамична и предусматривает постоянную законодательную работу.
В контексте сказанного возникает вопрос: к какому типу общественного договора склоняется Россия? Отечественная конституция писалась в духе французской. Например, она имеет ту же оговорку – «не более двух президентских сроков подряд». А сама юридическая система в Российской Федерации, почти такая же, как и во всем мире, – континентально-европейская.
Важным фактором динамичности общественного договора, проявляющегося в структуре конституции, является легкость, с которой можно менять основной закон страны. Так, например, парламент в англо-саксонской системе может вносить поправки в конституцию, а в США конгресс не вправе менять статьи внутри данного документа, он лишь уточняет их. Таким образом поправки не меняют текста конституции, они вносятся поверх существующих статей как некие дополнения. В российской же Конституции1 невозможно изменить первые две главы и последнюю, так как они являются сущностью документа. В остальные главы можно вносить изменения, а парламент может менять некоторые главы голосованием в 2/ 3 от общего числа депутатов.
Статическая конституция может быть полезна обществу тем, что личности, приходящие к власти, не способны будут изменить основной закон страны, но для принятия такого рода документа нужно, чтобы само общество и его структура была иной. Необходимо, чтобы сложившийся общественный договор был с самого начала справедлив, а общество по своей природе не радикализовано. Нужна также другая система права, иная организация работы парламента и суда.
Динамическая конституция способна отражать общественный договор, который сложился на данный момент времени. Если он устарел, то конституция, которую можно легко изменить, способна это отразить. Такой документ предполагает постоянную работу гражданского общества и государства по совершенствованию законодательства.
Другой важный аспект общественного договора, который отражается в конституции, – это этические нормы. Они предшествуют юридическим. Нормативно-правовые акты закрепляют сложившиеся этические общественные воззрения, а динамическая конституция, действующая в России, способна адаптироваться под изменяющееся общество. Этика является первоначалом для юридических норм, в то время как конституция представляет собой не просто отражение общественного договора, а закрепление этических норм внутри общества и страны.
Таким образом, заимствование конституции не способно отобразить договор между властью и обществом, а также народное восприятие этических норм. Остается нерешенной проблемой способность такой конституции работать, как задумывали ее создатели. Однако стоит заметить, что основной закон таких больших и многонациональных стран, как Россия, является сложным общественным договором. Если конституция Франции описывает моноэтническую, унитарную республику, то в России в основу положено сложное территориальное и национальное деление.
Кроме этического, следует учитывать и ценностный фактор. Аксиологические картины мира разных обществ могут не совпадать. Поэтому в случае заимствования конституции, законодательная реформа предпочтительна, поскольку адаптированный нормативно-правовой акт лучше будет отражать общественный договор в конкретной стране. Д. Локк полагал, что общественный договор, который не отражает интерес народа, должен быть расторгнут и, следовательно, дает право на восстание: «Те, кто устраняет или меняет законодательный орган, уничтожают ту решающую силу, которой никто не может обладать, кроме как по назначению народа и с его согласием, тем самым они уничтожают власть, созданную народом, и вводят власть, которую народ не разрешал; такие люди фактически создают состояние войны» (Локк, 1988: 393). Статическая конституция, то есть та, которую тяжело изменить, имеет существенный недостаток в том, что она не способна отображать ценности современного ей общества.
Рассмотрим влияние политического мифа на нормативно-правовую деятельность государства.
В XXI в. появилось новое понимание данного феномена. Например, общественное мнение, что власть президента должна быть ограничена двумя сроками, можно отнести как раз к мифологии, поскольку в сознании большинства существует опасение, что человек будет злоупотреблять институтами демократии. Это входит в противоречие с самим представлением о народовластии, поскольку популярного лидера могут запретительными мерами отстранить от выборов. Данный миф в современной истории о «злоупотреблении власти» зародился относительно недавно, а в
1951 г. в США была уже принята поправка в Конституцию. Она ограничила срок действия исполнительной власти. Принятие ее можно объяснить желанием предотвратить риск появления политика, который бы злоупотребил своей популярностью и остался бы «у руля» более чем на два срока. Однако сам по себе этот фактор не несет явных минусов.
Отцы – основатели США, такие как Б. Франклин, Д. Вашингтон, Т. Джефферсон, не стали ограничивать сроки президентской власти. Сама политическая система страны предполагала демократизм, поскольку государство было построено вокруг идеи гражданской нации. Ограничение же сроков исполнительной власти возникло в результате опасений, что один и тот же популярный лидер может оставаться у власти более двух электоральных циклов. Сам по себе такой риск существует, но идея распространилась по всему миру. Президентскую власть стали ограничивать даже в странах с динамической конституцией, где у лидера государства нет никаких значимых функций. Например, в Германии, Австрии, Чехии. Это прямо нарушает изначальный смысл американской поправки – ограничить исполнительную власть и является типичным примером мифологического мышления. Таким образом, нормой конституционного права стал миф.
В античности в силу того, что республика была полисом, количество сроков полномочий исполнительной власти не регулировалось. Вместо этого предпочитали ограничивать период действия полномочий консула. Причина в том, что современное представление об ограничении власти отличается от прошлого. В основе обоих лежит миф. Срок полномочий в Древнем Риме неразрывно связан с самим представлением о времени. Само летоисчисление шло от основания Рима, а каждый год назывался в честь консула. В такой системе невозможно представить, чтобы за один раз можно было избрать правителя на 4–6 лет. Восприятие консульской власти пропитано сакральным значением и неразрывно связано с понятием о том, что такое год. Таким образом, сама политика становилась священным актом, а занимающиеся ею граждане могли избираться консулами неограниченное количество раз.
Несмотря на то, что в каждой стране президент имеет разные функции (где-то он играет роль главы исполнительной власти, а где-то имеет формальную представительскую власть), с распространением указанного мифа разные страны стали запрещать своим президентам занимать данный пост более двух раз. Смысл двадцать первой поправки в Конституцию США был в ограничении именно исполнительной власти, в создании системы сдержек и противовесов, но во многих странах народ, опасаясь прихода к власти узурпатора, стал тотально ограничивать власть президентам, несмотря на то, что данный пост имеет совершенно разные роли и значения. Например, сущность президентской власти в Австрии, ФРГ лишь представительская, однако она ограничена, исполнительная же власть в данных странах вообще никак не регламентирована по времени.
Более того, сама идея лимитирования действий сроков исполнительной власти, конечно, имеет свою внутреннюю рациональность: ее сторонники руководствуются логикой недопущения политической катастрофы. Однако концепция ограничения сроков действия президентской власти противоречит также идее развития государства, поскольку лидер будет стремиться к личному обогащению в этот период, а не к заботе о порученной ему стране. Таким образом, рациональных аргументов в пользу ограничения любой президентской власти нет. Следует обратить внимание, что данный феномен не что иное, как политический миф, который появился относительно недавно и предположительно является следствием работы медиа, а именно манипуляцией темой риска.
Итак, из сказанного следует: страны с англо-саксонской системой права имеют статическую конституцию, а значит, имеют и общественный договор, а государства с континентально-европейской системой – динамическую конституцию. В обеих существенное влияние на формирование политического строя оказывает миф, но в странах со статичной системой тяжелее происходит трансформация государственного строя, поскольку влияние мифа ограничено. Данное обстоятельство может негативно влиять на представление о демократии, но в то же время сама страна политически более стабильна. Например, в Англии не было революций с ХVII в. и даже та, которая случилась тогда, скорее, являлась переворотом, результат которого быстро был нивелирован.
Сам «миф – это не просто образы, возникшие в сознании отдельного индивидуума, а образы, закрепленные в слове и ставшие достоянием целого коллектива» (Стеблин-Каменский, 1976: 87). Он имеет общественную природу, иначе он не смог бы существовать, но он имеет, в сущности, две разные интенции.
Если в античности антагонизм двух типов мифов (индивидуального и коллективистского) был представлен христианством и античным язычеством, то современный социальный миф репрезентируется политической борьбой между «левыми» и «правыми» партиями.
Необходимо выделить важный момент. В сущности, мифы являются коллективным наследием, которое объединяет людей внутри определенной культуры или общества. Они могут отражать основные моменты истории, традиции, моральные уроки, а также человеческие стремления и их борьбу. Однако коллективистские, «левые», мифы стремятся объединить группу людей и уравнять их, индивидуалистские же, или «правые», мифы пытаются возвысить личность, обособить ее в группе. Конечно, подобное обобщение нужно для удобства и понимания общих тенденций в социуме.
Сущность коллективистского мифа состоит в отрицании связей с прошлым. Можно привести несколько примеров. Например, рассмотрим феномен космополитизма. В эпоху господствующей полисной культуры в Древней Греции, люди, исповедующие мифологему о гражданстве «мира», могли так укрепить свое положение в социуме. Так миф, по сути, превращал маргинала в космополита. Неудивительно, что свою вторую жизнь миф получил в современности – в эпоху закрытых границ национальных государств и начавшейся активной глобализации. Сегодня его опасность состоит в том, что он создает образ человека, оторванного от своей культуры, страны, общества и даже своих корней. Человек, который верит в данный миф, не несет ответственности перед своими предками и потомками. Он ощущает себя временным свидетелем событий, а не героем происходящего. В условиях же демократии и динамической конституционной системы люди, оторванные от своих корней, могут вынуждать страну руководствоваться не своими национальными интересами, а какими-то общими представлениями о мироустройстве и морали, и данный факт является новым вызовом современности.
Отчуждение человека от прошлого и традиций может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям. С одной стороны, это может стимулировать инновации, развитие и прогрессивные изменения в обществе. С другой – оторвавшись от корней и истории, человек может лишиться опоры, стабильности и смысла, что в конечном итоге способно привести к дезориентации и духовному кризису. Государство же, измененное под воздействием такого коллективистского мифа, вместо следования своим интересам будет выполнять роль чужого агента.
«Правый» тип мифологии в современности репрезентирован наблюдаемой тенденцией возврата к традиционным ценностям и символам, что свидетельствует о поиске утраченной идентичности и желании сохранить связь с историей. Однако современное представление о прошлом у человека появляется в результате конструирования этого образа через медиа и современную культуру, такую как фильмы и игры или же литературу и многое другое. Отметим, что «носителем мифического слова способно служить все – не только письменный дискурс, но и фотография, кино, репортаж, спорт, спектакли, реклама. Миф не определяется ни своим предметом, ни своим материалом, так как любой материал можно произвольно наделить значением». (Барт, 1994). Следовательно, в современности миф способен быть оружием в руках средств массовой информации. Медиакорпорации же, в отличие от сословия жрецов, заинтересованы в получении прибыли. Кроме того, заинтересованные группы способны их приобретать с целью получения влияния на общество.
«Правая» тенденция мифологизации общественного пространства сопровождается своими социальными последствиями. Например, миф о третьем пути. Данная идея представляет собой, по сути, изоляционизм. Вместо развития в общем направлении со всеми странами в едином историческом, культурном и экономическом пространстве, данный миф как бы отрывает государство от них и вместо этого предлагает автаркию. Политики в демократических государствах вынуждены для привлечения голосов избирателей использовать существующие мифы в своих целях. Приходя к власти, они реализуют свою программу и юридически нормализуют таким образом подобные мифы.
В завершение данной статьи сформулируем некоторые выводы. Существуют два основных вида конституции – динамическая и статическая. Первая отличается большей демократичностью, а вторая – стабильностью. В основании континентально-европейской системы управления лежит западная система права, сформированная на основе римского законодательства, а также мифологии. На динамическую конституцию повлиял Ж.Ж. Руссо, в особенности своей идеей референдумов, а на статическую – Д. Локк. Отметим, что динамическая конституция больше других подвержена влиянию мифа. Поскольку, как было сказано выше, она отражает общественные ценности. Если статическая конституция не репрезентирует развитие общества, то динамическая слишком сильно подвержена изменениям. Существует риск влияния медиа на формирование современных мифов, которые могут найти свое отражение в конституционных документах или нормативно-правовых актах.
В информационном обществе двойная направленность мифа сохранилась, она выражена в политической борьбе левых и правых партий, где миф проявляется в индивидуалистских и коллективистских направлениях. Кроме того, современная мифология строится на особом восприятии риска. Медиа же могут этим манипулировать.
Список литературы Современный миф как источник конституционного права
- Аристотель. Политика. М., 2012. 393 с.
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. 130 с.
- Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М., 1936. 503 с.
- Куланж Ф. Гражданская община древнего мира. СПб., 1906. 459 с.
- Локк Дж. Сочинения : в 3 т. М., 1988. Т. 3. 668 с.
- Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 2008. 303 с.
- Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М., 1998. 416 с.
- Стеблин-Каменский М.И. Миф. СПб., 1976. 104 с.