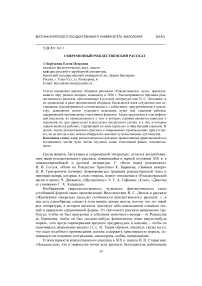Современный рождественский рассказ
Автор: Берзкина Елена Петровна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу сборника рассказов «Рождественское чудо», принадлежащего перу разных авторов, изданному в 2016 г. Рассматриваются признаки рождественского рассказа, предложенные в русской литературе еще Н. С. Лесковым, и их проявление в ряде произведений сборника. Выделяется идея сочувствия или сострадания, рассматривается соотнесенность с событиями, приуроченными к рождеству, выявляется мотив чудесного исцеления души или спасения ребенка, завершающий произведение счастливым финалом. Также предлагается классификация рассказов, их принадлежность к тем, в которых героями являются взрослые и изменение их душ происходит в результате несчастного случая, и к тем, в которых героем является ребенок, страдающий по вине взрослых и обретающий спасение. В целом, черты рождественского рассказа в современных произведениях присутствуют, но не всегда в них можно обнаружить высокие художественные достоинства
Жанр рождественского рассказа, православный нравственный код сострадания, мотив чуда, мотив блудного сына, счастливый финал, назидательность
Короткий адрес: https://sciup.org/148316593
IDR: 148316593 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Современный рождественский рассказ
О популярности рождественского рассказа в XIX в. писала Н. Н. Старыгина: «Показательно, что в творчестве почти всех крупных беллетристов, работавших в газетной периодике во второй половине XIX века, присутствовал святочный рассказ: Н. С. Лесков, М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. Успенский, А. П. Чехов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, В. Г. Короленко, П. В. Засодимский, Л. Н. Андреев, А. М. Горький публиковали рождественские рассказы. Талантливые писатели в традиционной литературной форме святочного рассказа находили новые и интересные возможности для воплощения своих замыслов. Благодаря их творчеству маленький святочный рассказ становился достоянием большой литературы. Именно этот поток в рождественской литературе будет в дальнейшем предметом исследования. По бытовавшей традиции их читали в кругу семьи, не относя к какой-либо возрастной категории» [2, с. 115].
Автор находит, что поэтика святочного рассказа во второй половине XIX в. претерпевает существенные изменения, обусловленные прежде всего реалистическим содержанием творчества русских писателей. «В большинстве своем святочный рассказ лишается мистики, ирреального, запредельного, что и приводит или к отказу от сложившихся жанровых стереотипов, или к передаче им иных, не свойственных ранее функций, или к формальному их использованию в сюжете и композиции» [2, с. 119]. При всех изменениях в жанровом содержании и форме святочного рассказа неизменной оставалась его нравственно-христианская направленность.
Несмотря на многообразие святочных рассказов, учеными выделяются следующие типологические признаки жанра: во-первых, особая идея, утверждающая ценность человеческой жизни, добра, сочувствия, внимания людей друг к другу. Именно такой православный нравственный код закладывается в содержание рождественского рассказа. Во-вторых, жанровый канон рождественского рассказа связан с временем празднования святок или одной рождественской ночи. В-третьих, наличествует чудо, изменяющее душевное состояние героя. В-четвертых, важен счастливый финал. В-пятых, особой функцией рождественского рассказа является поучительность или назидательность. Однако уже во второй половине XIX в. писатели обостряли социальные противоречия в произведениях данного жанра. Так, Н. Н. Старыгина указывает, что в них присутствовало обнажение неблагополучия и несправедливости в общественной жизни [2].
С конца 1980-х гг., согласно социологическим исследованиям, в России «повышается тяготение к религии, прежде всего православной» [3, с. 663]. Этот факт нашел свое распространение и в литературе, поскольку писатели стали вновь активно обращаться к христианским идеям, образам, мотивам, вводить фрагменты божественных песнопений, религиозных обрядов в свои произведения. Можно констатировать, что в современную прозу вернулся и упрочился жанр рождественского рассказа, отвечая потребностям людей в праздничных переживаниях, а также желанию «жить в ритме времени, в рамках осознанного годового цикла» [4, с. 31]. Таким образом, прерванная в годы советской власти культурная традиция написания рождественского рассказа восстанавливается, а сам рождественский рассказ возвращается в современный литературный процесс, и, по определению С. В. Василенко, в нем происходит «соединение традиционной формы святочного рассказа и современного до озноба содержания» [5, с. 4].
К современным рождественским рассказам можно отнести достаточно большой корпус текстов таких писателей, как Д. Быков, И. Клех, Н. Ключарева,
Л. Петрушевская, В. Токарева, Л. Улицкая и многие другие. Мы же решили остановиться на сборнике рассказов «Рождественское чудо», изданном в Москве в 2016 г. Авторы в них по-разному изображают рождественские события, произведения неравнозначны по своим художественным достоинствам, но жанровые приметы сохраняются. Например, О. Николаева в отрывке из повести «Ничего страшного…» обращается к выделению жанровых признаков, задавая их вектор: «Лазарь согласился начать, предварив свое повествование кратким описанием жанра. Во-первых, события должны происходить между Рождеством и Крещением, то есть на Святках по определению. Во-вторых, в рассказе должен быть некий элемент недоразумения или мистификации и в конце концов недоразумение должно быть разрешено, а мистификация разоблачена. <...> И в-третьих, все заканчивается преображением жизни. Если этого нет, то это просто байка», – заключил он» [6, с. 187]. Так же, как и рассказчик Н. С. Лескова в «Жемчужном ожерелье», герой О. Николаевой провозглашает черты жанра святочного или рождественского рассказа, который не утрачивает своей актуальности для читателей XXI в.
Далее следует поучительная история о судьбе младшей сестры Лазаря, которую он называет гордой, самолюбивой, придирчивой, черты не просто подростка, но и безбожного человека, не ведающего кротости, смирения, послушания. И даже покрестившись в семнадцать лет, она продолжает искушать себя и всех окружающих противоречиями: то возьмется утверждать, что нельзя надеяться на рукотворный жар, теплую одежду, а только на «жар Христов» [6, с. 192], согревающий в лютый мороз; то требует необходимость церковных реформ: «Потому, что вера-то закоснела! Обросла суевериями. Надо народ религиозно просвещать!» [6, с. 194]. Оппонентом в этих спорах был друг рассказчика Алексей, который учился вначале в духовной семинарии, затем в Академии.
Примирил героев чрезвычайный случай, произошедший за два дня до Крещения: грабители связали их спинами друг другу, поместили в ванну, открыли воду, заткнули сток и ушли. Осознав всю нелепость ситуации, герои единодушно решили, что будут вместе молиться и стали петь: «Два ангельских гласа вдохновенно взывали к небесам. «Заступнице усердная…» – раздавалось из ванной. «Богородице Дево, радуйся!» и даже «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи!» [6, с. 198]. Финал истории благостный: соседи их спасли, позднее герои создали семью, имеют троих детей, Алексей служит в московском храме и особенно любит праздник Крещения.
Как видим, рассказ Лазаря укладывается во временные границы от Рождества до Крещения, кульминационный эпизод остросюжетный, драматичный и нетипичный, а финал указывает на преображение жизни благодаря вере и чистоте души. Герои рассказа – люди верующие, знающие слово Божие. В произведении звучат фрагменты молитв и песнопений. Такой рождественский рассказ предназначен в назидание скорее взрослым, чем детям.
Не менее драматичная история представлена в рассказе В. Каплана «Звездою учахуся», повествующем об обретении взрослым сыном, блатным пацаном своего отца, верующего человека, возвращающегося после церковной службы Рождества Христова. Михаил Николаевич после рождественской утрени (ночной службы) не успел на метро и решил идти домой пешком, потому что дома ждала больная жена. Перед ним остановился джип, и люди из машины предложили подвезти его. В дороге завязался разговор о вере, о Боге и спасении. Михаил Николаевич сказал, на его взгляд, самую очевидную истину: «Господь всех любит, и праведников, и грешников. Для того Он и стал человеком, и смерть на кресте принял. Самую страшную смерть» [6, с. 64]. Как христианин, герой видел в вере животворящую силу, тогда как бандиты обвиняют Бога во всех бедах: «А где ж Он был, когда сеструху мою разложили? В четырнадцать лет! И кто главное? Директор школы, прикинь, козлина! Кончилась девка, на панель пошла. А когда меня на зоне шакалы подрезали, где Он был? Любовался, да?» [6, с. 65]. Всю боль за социальную несправедливость бандиты возлагают на Бога: «Вот Он в этом и виноват! – разом успокоившись, заявил Репей. – Он нам такую подляну устроил, Он нас такими сделал. А ты Ему кланяешься, свечки жжешь…Думаешь, будто спасешься…» [6, с. 65].
Особенно резкое неприятие вызвали у бригадира слова Михаила Николаевича о Промысле Божием: «Есть такое понятие – Промысел Божий, – сухо возразил мужик. – И знать мы его заранее не можем. Захочет Господь, будет это мне на пользу духовную – и действительно вытащит. Были у меня в жизни такие случаи. Но и по-другому было… – Он вздохнул. – Надеяться и молиться надо, а стопроцентно рассчитывать на помощь… нет, так нельзя» [6, с. 68].
Репей потребовал остановить машину и не просто выбросить Михаила Николаевича из нее, не побить, а провести, так сказать, научный эксперимент. Блатные сняли с него куртку и повесили на дереве, как на дыбе. «Типа богословский эксперимент. Спасет тебя твой Христос или как? Ты не бойся, мы тебя гвоздями прибивать не будем, нету гвоздей. Так повиси. А мы поедем. Ты же веришь в Него? Ты ж Его любишь? Ну, вот Он тебя и выручит. Уж не знаю как. Типа там огненная колесница или ангелы… как там у вас полагается? А если нет… значит, и Бога никакого нет, значит, фигня. Зато послужишь науке» [6, с. 71].
Более того, Репей искушает Михаила Николаевича, как дьявол, предлагает признать, что Бога нет, и тогда они его снимут, довезут до дома и еще моральный ущерб возместят. Но колебания героя были только секундными, им он ответил: «Нет». Автор рассказа психологически точно передает душевное состояние Ми- хаила: «Он понимал, глядя на удаляющиеся тени, что надо бы сейчас помолиться за эти заблудшие души. “Ибо не ведают, что творят”. Но не получалось – мешал холод. Ослепительный равнодушный холод. Такой же равнодушный, как высокие звезды» [6, 74]. Взгляд героя устремлен вверх, к звездам, к Спасителю. “В нем звездам служащие… звездою учахуся…”. Не согревал рождественский тропарь, и небо с каждой минутой становилось все темнее» [6, с. 74]. Кажется, что финал трагичен, безнадежен, что бесовские силы победили даже в рождественскую ночь, и Божественное присутствие покинуло грешную землю навсегда.
Рассказ построен на композиционной антитезе, и поэтому далее сюжет резко изменяется. Водитель джипа Костыль читает в паспорте, который оказался в куртке, снятой с Михаила, его данные и понимает, что это его родной отец. Он разворачивает машину и едет спасать родного человека. «Папа, ну продержись, я быстро! – На глаза наворачивались давно забытые слезы. – Господи! Значит, Ты и вправду есть? Ну помоги ему… мне… нам…» [6, с. 81]. Обретение отца даже взрослым человеком воспринимается взволнованно, герой впервые почувствовал, что есть сердце, которое заболело.
Рассказ завершается пейзажной зарисовкой, традиционно символичной для рождественской ночи: «Впереди, во все небо пылали звезды. Казалось, от каждой из них протянулись невидимые ниточки, и не бензиновый двигатель гнал машину, а именно притяжение этих тонких лучей. <…> И он ничуть не удивился, когда звезды вдруг разрослись, превратившись в маленькое золотое солнце» [6, c. 81].
Жанровые каноны рассказа выдержаны в традициях святочного или рождественского: события происходят в святую ночь, на небе горят звезды, мороз, снег под ногами? событие остросюжетное, драматичное, главный вопрос касается веры в бога и спасения, показан резкий конфликт между религиозным сознанием, готовым к смирению, и безбожным поведением блатных, считающих себя богами земными, «право имеющими» казнить и миловать, наконец, неожиданный финал перерождения души одного из персонажей. Звучит мотив блудного сына, через семнадцать лет нашедшего своего отца.
Эти рассказы, а также произведения М. Бакулина «Сын Божий рождается, славьте!», Л. Подистовой «Рождество, мама», Б. Екимова «За теплым хлебом» можно объединить одним: их герои – взрослые люди. И возможно, не все сюжеты остродраматичны, но в них изображается нравственное состояние современного общества, духовное обнищание, падения одних и наличие истинной веры у других. В них отсутствуют дети как главные герои и чудеса не имеют мистической окраски, связаны с изменением душевных импульсов в сторону спасения.
В другой типологический ряд входят рассказы, в которых авторы, следуя канону православно-христианской идеи преображения человека и мира в рождество, обостряют социальный пафос благодаря тому, что героем становится ребенок. Так, например, в центре рассказа Н. Ключаревой «Юркино Рождество» находится ребенок, чьи родители спиваются, и он вынужден бороться с ними за свое выживание. Характер Юрки, так зовут героя рассказа, позволяет справиться со «свинцовыми мерзостями жизни».
В произведении актуализировано время трех праздничных дней и двух рождественских событий. Вначале изображается католическое Рождество, которое дарит ребенку мечту иметь свою елку дома, он даже «задохнулся от сокрушительного чувства» [6, с. 115]. Заметна перекличка с традиционным мотивом из рассказа Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке», где герой, затаив дыхание, любется украшенными витринами магазинов в рождественский сочельник.
В современном рассказе встреча нового года изображается безрадостно: родители пили, мечта иметь дома елку не исполнилась, но надежда, как окажется в дальнейшем, осталась. События русского рождества как некая кульминационная точка рассказа развиваются когда пьяные родители уснули, забыли о сыне и не впустили Юрку домой: «Никто никогда не узнал, где провел эту ночь, бывшую, как всегда на Рождество, звездной и морозной, молчаливый пятиклассник Юрка Кривов в демисезонном пальто с оторванными пуговицами» [6, с. 117]. Автор по нарастающей изображает события социального неблагополучия, приведшие героя к ненависти, принятию максималистского решения - не пускать родителей и в дом.
Мотивация данного поступка появляется позже, когда 16-летний Юрка сам расскажет своему приятелю, свидетелю событий, о том дне, который изменил его жизнь. Герой разрушает привычный «порядок» жизни и оказывается не понят окружающими, но не сдается. «Вам всем было бы спокойнее, если б я попал в детдом, прирезал кого-нибудь за золотую побрякушку и в двадцать лет сдох на нарах от туберкулеза, ненавидя весь мир! Вы этого от меня ждали?!» - спросит он через несколько лет у своего школьного приятеля Герку [6, с. 127]. Юрка принципиально изменяет старую жизнь: отказывается от родителей, а позднее меняет фамилию и отчество. С прошлым, по его мнению, покончено раз и навсегда. Старая жизнь разрушена, семьи нет, праздника нет.
Однако рассказ на этом не завершается, автор вводит в композицию перемену декораций, за счет чего происходит удвоение сюжетного события рождества. Теперь взрослый сын дарит матери, находящейся на лечении в психиатрической больнице, рождественскую елку, которую она когда-то пообещала купить ему и не сдержала слова. Теперь на елку восторженно смотрит его мать (как ребенок), и жизнь начинает наполняться светом.
Мотив восстановления семьи, разрушенных родственных связей реализуется в сумасшедшем доме, куда попадает мать Юрки, допившаяся до белой горячки. Она не узнает в сыне родного человека, считает, что ее навещает чужой молодой человек и предлагает ему стать сыном, на что герой соглашается. Понятия «мать-дитя», «взрослый-ребенок», «свой-чужой» меняются местами. С одной стороны, обостряя трагизм, с другой стороны, показывая, что любовь и сострадание живут в сердцах людей. Н. Ключарева предлагает оригинальное решение вечной проблемы добра и зла: «…некогда совершенное зло прорастает иррационально, вне ожидаемой логики, прорастает добром» [8, 28].
Мотив утраты / обретения родными людьми друг друга (сын-мать) можно считать трансформацией мотива блудного сына, с той разницей, что блудными становятся пьющие родители Юрки, а не сын, и не по своей воле.
Свое рождество мальчик встречает вместе с собакой Диком в сарайчике, где пса бросили прежние хозяева. Коле удалось раздобыть ужин, еще остались добрые люди, хозяин одного кафе накладывает ему обрезки для собаки и котлету для него самого. После ужина он прижимается к псу и засыпает, но морозы стоят сильные и есть угроза замерзнуть. Ему снится старец Николай, который приводит его на каток: «…перед ними открылся сверкающий серебром каток, а на нем много мальчишек и девчонок, и все легко скользят вокруг огромной елки, усыпанной огнями и белыми светящимися шарами» [6, с. 223].
А. Солоницын практически повторяет сюжет рассказа Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке», в котором безымянный герой-ребенок тоже засыпает за поленницей дров и попадает во сне на праздник рождества Христова. Но современный автор меняет финал рассказа. Появление святого Николая, угодника Божия, в честь которого и был назван мальчик, оборачивается приходом реального человека – Николая Николаевича Павлова, который спасет мальчика, принеся его на руках к себе домой, растирает водкой и укутывает в одеяло. Когда мальчик открывает глаза, то видит елку и икону. «На иконе был изображен тот самый дедушка, который спас его от контролеров в электричке и который привел его на необыкновенный каток» [6, с. 229]. Чудо рождества свершилось, Коля спасен от смерти, а семья Павловых, совершив этот поступок добра и сострадания, спасает свои души. Отец семейства Николай Николаевич дает лучший пример поведения своим детям.
Автор в рассказе намеренно дает героям одно и то же имя: мальчика-страдальца зовут Коля, старца зовут Николаем, спасителя тоже Николаем Николаевичем, и на иконе изображен Николай Чудотворец, один из самых почитаемых святых в православии. Он прославился как великий Угодник Божий. Известно, что именно этот Святой помогал бедствующим людям, спасал в кораблекрушениях, освобождал пленных, избавлял от смерти, исцелял от болезней. Его божественное присутствие в рассказе вполне оправдано, а само произведение полностью соответствует канону рождественского жанра.
В сборнике «Рождественское чудо» представлены рассказы, где героем также является ребенок: «Голуби» В. Евтуховой, «Черепашка» В. Гурболикова, «Бабочка» Е. Седовой. Авторы обращают внимание на детскую чистоту души, искренность помыслов и спасительную силу именно детской молитвы. Так, мальчик в рассказе В. Евтуховой искренне признается: «Я молюсь и кормлю голубков, чтобы у Боженьки было время вылечить моего дедушку!». На что рассказчица откликается словами: «Мне нечего было сказать этому маленькому воину Христову с такой большой верой в душе» [6, с. 16].
Таким образом, в рассмотренных произведениях сборника «Рождественское чудо» выделяется два типа вариаций на рождественскую тему. К первой группе относятся рассказы, в которых чудо, происходящее в душах взрослых людей, порою далеких от веры, от идеи спасения Христа, все же происходит, и герои прозревают, осознают духовные начала. В другую группу входят рассказы, в которых главными героями становятся дети, что делает их эмоционально пронзительнее, потому что в детских душах сохраняется христианский идеал любви и милосердия, несмотря на «свинцовые мерзости жизни». В. Евтухова, завершая свой рассказ, очень точно определяет: «Ведь самое настоящее чудо рождества – то чудо, которое происходит в человеческом сердце» [6, с. 16]. Весь сборник в целом пронизан одной важной мыслью, высказанной протоиерем Константином Пархоменко в предисловии, о том, что чудо рождества – это «чудо исцеления души, чудо духовного возрождения» [9, с. 9].
Несмотря на то, что некоторые рассказы сборника не отличаются высокими художественными достоинствами, авторские вариации христианской традиции тем не менее стоит считать плодотворным поиском компромисса между верой, высшими духовными ценностями и вымыслом, игрой воображения. Реализуя различные художественные средства в жанре рождественского рассказа, современные авторы вскрывают пороки современного общества, развивают и усложняют классический сюжет новыми психологическими смыслами.
Список литературы Современный рождественский рассказ
- Лесков Н. С. Жемчужное ожерелье // Собр. соч.: в 12 т. - Москва, 1989. - Т. 7.
- Старыгина Н. Н. Святочный рассказ как жанр // Проблемы исторической поэтики. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1992. - Вып. 2: Художественные и научные категории. С. 113-127.
- Семенова В. Е. Православный менталитет и культура в современной России // Христианство и русская литература: сб. ст. / отв. ред. В. А. Котельников, О. Д. Фетисенко. - Санкт-Петербург, 2006.
- Душечкина Е., Баран Х. Настали вечера народного веселья // Чудо рождественской ночи: святочные рассказы. - Санкт-Петербург, 1993.
- Василенко С. В. Рождественское чудо. Вместо предисловия // Святочные рассказы. ХХ! век. - Москва, 2009.
- Рождественское чудо. Рассказы современных писателей. - Москва: Никея, 2016. -240 с.
- Дунаев М. М. Православие и русская литература: в 6 ч. Ч. VI (кн. 1). - Москва: Художественная литература, 2004. - 512 с.
- Кучина Т. Г. Русская литература 2000-х годов на уроке литературы в старших классах // Взаимодействие вуза и школы в преподавании отечественной литературы. -Ярославль, 2010.
- Пархоменко К. Чудеса сегодня. Предисловие // Рождественское чудо. Рассказы современных писателей. - Москва: Никея", 2016