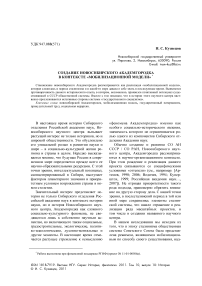Создание новосибирского Академгородка в контексте «мобилизационной модели»
Автор: Кузнецов Иван Семенович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 10 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
Становление новосибирского Академгородка рассматривается как реализация «мобилизационной модели», которая сложилась в период сталинизма и в какой-то мере давала о себе знать в последующее время. Выявляется противоречивость данного исторического опыта, в котором, несомненно, проявился позитивный потенциал существовавшей в СССР общественной системы. Вместе с тем показано, что в истории этого научного центра явственно прослеживаются негативные стороны системы «государственного социализма».
Новосибирский академгородок, мобилизационная модель, государственный патернализм, принудительный труд, социальная иерархия
Короткий адрес: https://sciup.org/14737407
IDR: 14737407 | УДК: 947.088(571)
Текст научной статьи Создание новосибирского Академгородка в контексте «мобилизационной модели»
В настоящее время история Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирского научного центра вызывает растущий интерес не только историков, но и широкой общественности. Это обусловлено его уникальной ролью в развитии науки и шире – в социально-культурной жизни региона и страны в целом. Нередко высказывается мнение, что будущее России в современном мире определяется прежде всего ее научно-образовательными ресурсами. С этой точки зрения, интеллектуальный потенциал, сконцентрированный в Сибири, выступает фактором планетарного значения и приоритетным условием возрождения страны в новом столетии.
Значительный интерес представляет история не только Сибирского отделения Российской академии наук в контексте истории науки, но и история Новосибирского научного центра, Академгородка как сложного социально-культурного феномена, не сводящегося лишь к собственно научным аспектам, но включающего также социальные, градостроительные, экологические, политико-идеологические, духовно-ментальные и другие моменты. В настоящее время отмечается растущее стремление к осмыслению
«феномена Академгородка» именно как особого социально-исторического явления, значимость которого не ограничивается ролью одного из компонентов Сибирского отделения Академии наук.
Обычно создание и развитие СО АН СССР / СО РАН, Новосибирского научного центра, Академгородка рассматриваются в научно-организационном контексте. При этом рождение и реализация данного проекта связываются со специфическими условиями «оттепели» (см., например: [Артемов, 1990; 2006; Водичев, 1994; Купер-штох, 1999; Российская академия наук…, 2007]). Не отрицая приоритетности такого рода подхода, правомерно обратить внимание на другую сторону дела. С нашей точки зрения, в послесталинский период в той или иной мере сохранялись элементы сталинской системы, что нашло отражение в реализации ряда масштабных проектов, в том числе в создании названного научного центра.
В нашем исследовании мы исходим из того, что в эпоху сталинизма общественная система Советского Союза была представлена режимом, являвшимся мобилизационным по способу своего существования, над- строенным над конгломератом различных, преимущественно докапиталистических социально-экономических укладов и мозаичной социальной структурой, необходимая устойчивость которого достигалась за счет применения в отношениях с социумом (народом, населением) технологий социальной мобилизации.
Под категорией «социальная мобилизация» понимается целенаправленное воздействие институтов власти на массы, основанное на подавлении или искажении свободных и рациональных предпочтений, мотиваций и действий отдельных индивидов и групп для приведения социума в активное состояние, обеспечивающее поддержку и реализацию целей и задач, объявляемых приоритетными и признаваемых общественным большинством. Социальная мобилизация позволяла власти концентрировать максимум ресурсов и возможностей общества на выполнение провозглашенных целей всеми имеющимися в распоряжении институтов власти средствами (см., например: [Галкин, 1990]).
Одним из первых обратил внимание на противоречивость опыта новосибирского Академгородка и наличие в нем «сталинистского компонента» М. А. Поповский. Это прослеживается в его книге «Управляемая наука», которая вышла в Лондоне в 1978 г. Напомним, что названный автор был одним из наиболее известных в нашей стране журналистов по проблемам науки. За свои острые публикации он подвергся преследованиям и в 1976 г. был вынужден эмигрировать. В постсоветский период вызвал резонанс ряд его новых произведений, в особенности книга «Житие Войно-Ясенец-кого – епископа и хирурга». В исследуемом контексте в книге «Управляемая наука» наибольший интерес представляет глава «Города и годы», значительная часть которой посвящена новосибирскому Академгородку, который характеризуется в сопоставлении с другими советскими наукоградами.
Указанный автор весьма негативно оценивает данный исторический опыт. Он утверждает, что создание научных городков имело лишь кратковременный позитивный эффект, а затем все худшие черты системы «государственного социализма» воспроизвелись в них в наиболее законченном виде. В частности, в названной книге говорится: «Поняли ли хозяева советской науки, что, в отличие от Запада, наш эксперимент с научными резервациями провалился? <…>. Что до партийных руководителей науки, то они в городках души не чают. Именно городки для них – символ лучшего, что есть в науке страны. Что же их так восхищает? На прямой вопрос партийные боссы отвечают малосодержательными фразами о “взаимном оплодотворении наук”, об атмосфере энтузиазма среди жителей Академгородка, Дубны и Пущино. Как мы теперь знаем, энтузиазмом тут не пахнет. Но зато есть нечто другое, действительно ценное. В городках науки исследователь еще более зависим от администрации, чем в Москве, Ленинграде или Киеве; проявление личной или общественной инициативы там еще менее возможно, чем в больших городах; общественное мнение доведено до нулевой отметки, личностный характер в науке полностью отсутствует. Иными словами, советская наука в научном городке более управляема, чем где бы то ни было в другом месте» [Поповский, 1978. С. 123].
Сходные оценки по интересующему нас вопросу обнаруживаются и в мемуарах Р. Л. Берг «Суховей» (первое издание вышло после ее эмиграции в США в 1983 г.). Автор, известный генетик, доктор биологических наук, работала в Институте цитологии и генетики СО АН в 1963–1968 гг. Целый ряд фрагментов названной книги посвящен ее жизни в Академгородке. Как и у М. Поповского, это изображение носит весьма негативистский характер: характеризуя атмосферу сибирского города науки, автор делает акцент на засилье бюрократии, всеобъемлющем контроле («стукачи» и т. д.), конформизме ученых, иерархии и привилегиях [Берг, 2003. С. 331–319].
Из числа исторических исследований положение о противоречивости исторического опыта новосибирского Академгородка наиболее обстоятельно обосновано в книге американского автора П. Джозефсона [Josephson, 1997]. До настоящего времени она остается единственным обобщающим трудом по истории сибирского Города науки. В связи с 50-летием СО АН СССР / СО РАН была опубликована статья названного историка, которая стала определенным итогом его многолетней работы над этой темой [Josephson, 2007]. С учетом нового исторического опыта он в определенной мере скорректировал свои прежние выводы. Ос- новная тенденция этой трансформации определяется усилением критического подхода к истории советской науки в целом и истории СО АН в том числе. П. Джозефсон лишь в какой-то мере соглашается с распространенным объяснением нынешнего упадка российской науки последствиями рыночных реформ, снижением государственного финансирования. В его трактовке, современные деструктивные процессы в немалой степени стали продолжением негативных тенденций позднесоветского периода, которые весьма рельефно прослеживаются в истории сибирской академической науки.
Обращаясь к содержательной характеристике рассматриваемых процессов, следует подчеркнуть, что таком локальном феномене, как новосибирский Академгородок, в концентрированном виде отразились многие аспекты развития не только отечественной науки, но и российского социума в целом. Можно сказать, что во второй половине XX столетия на берегах Оби был поставлен своего рода исторический эксперимент, результаты которого трудно ценить однозначно. С одной стороны, в эпопее создания и развития Академгородка с наибольшей полнотой реализовался позитивный потенциал существовавшей в то время в нашей стране общественной системы. Речь идет, прежде всего, о возможности небывалой концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития, к которым на определенном этапе относился и научно-образовательный комплекс. Более того, можно предположить, что здесь контуры «нового мира», во имя которого народы нашей страны принесли такие жертвы, прослеживались особенно явственно. Если на каком-то этапе советской эпохи у нас действительно были реальные черты социализма, как общества социальной справедливости, основанного на демократических началах, то, быть может, с наибольшей полнотой они обнаруживались именно в новосибирском Академгородке.
В то же время в развитии ННЦ проявились и многие противоречивые черты «административно-командной системы», особенно явственные именно в условиях грандиозного эксперимента, когда все начиналось с «чистого листа». Государственный патернализм, изолированность от окружающего населения, внутренняя иерархия – все эти черты, видимо, в той или иной мере повлияли на менталитет научного сообще- ства, а сейчас, помимо прочего, затрудняют его адаптацию к современным реалиям.
Какие же конкретно параметры «мобилизационной модели» нашли наиболее рельефное воплощение в истории Академгородка? Одно из наиболее ярких выражений этой социально-исторической репрезентативности – использование при строительстве нового научного центра принудительного труда. Известно, что последний, начиная с 1930-х гг., применялся в нашей стране весьма широко, особенно в сфере строительства. Мы еще помним те времена, когда любая крупная строительная площадка, даже в центре большого города, как правило, была обнесена колючей проволокой, поскольку здесь работали «зэки». Этого характерного явления, вряд ли украшавшего строительство «города Будущего», не избежал и наш Академгородок.
Известно, что данная стройка, в силу целого комплекса причин разворачивалась с большим трудом, можно сказать, – мучительно (см.: [Кузнецов, 2007]). Поэтому уже в первые месяцы этой эпопеи выдвигаются предложения об использовании здесь военно-строительных частей и заключенных. Конечно, подлинные масштабы их применения на данном объекте можно представить только по архивам соответствующих силовых ведомств, однако они исследователям недоступны. Поэтому о «гулаговском» компоненте «великой стройки» можно судить лишь по отдельным, «глухим» упоминаниям в доступных нам документах. Одной из первых попыток ускорить строительство Академгородка стало постановление Совета Министров СССР от 4 декабря 1957 г. «О мероприятиях по строительству объектов Сибирского отделения Академии наук СССР». Однако оно не содержало каких-либо кардинальных решений, – возможно, основное в данном документе заключалось в пункте № 14, который носил секретный характер (его содержание не расшифровывалось). Можно предположить, что в нем речь шла об использовании на сооружении Академгородка «спецконтингента» – военностроительных частей и заключенных.
Основания для такой версии дает проект соответствующего постановления Совета Министров СССР, сохранившийся в фонде ЦК КПСС. Там, в частности, предлагалось (п. 18, 22): «Обязать Министерство Внутренних дел СССР обеспечить “Новоси- бирскгэсстрой” рабочей силой в количестве 2000 чел. с ноября 1957 г. до конца строительства научного городка. Распространить Положение на рабочую силу заключенных о производстве зачетов 1 к 3 отбытого времени наказания. <...> Обязать Министерство Обороны СССР выделить в текущем году “Новосибирскгэсстрою” до конца строительства научно-исследовательских институтов СО АН СССР строительные батальоны в общем количестве 2000 чел., а также поручить производство дорожно-мостовых работ в районе научного городка воинской части № 62 096» 1.
На исходе первого полугодия строительства Академгородка фундаментальное обсуждение его хода состоялось 20 февраля 1958 г. на заседании Новосибирского совнархоза. Отмечая большие трудности строительства, срыв всех намеченных сроков, председатель Совнархоза В. Т. Забалуев в том числе упомянул, что «даже строительство лагеря для заключенных, который должно быть закончено еще в декабре, мы до сих пор не сдали» 2.
Весной 1959 г. министерство финансов РСФСР провело небывало детальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности СО АН, в ходе которой были выявлены серьезные промахи в строительстве Академгородка. В акте ревизии, среди прочих недостатков было отмечено: «На строительство лагпункта с 1957 г. израсходовано свыше 9 млн руб., затраты продолжаются, в то время как нахождение лагпункта на территории городка морально нецелесообразно» 3.
Судьбоносной вехой в процессе рождения Академгородка стало постановление Совета Министров СССР от 14 мая 1959 г. «О возложении на Министерство среднего машиностроения строительства Новосибирского научного городка СО АН СССР». В соответствии с ним создавалась строительная организация «почтовый ящик 111» («Сибакадемстрой»). В связи с этим следует напомнить, что так называемое «Министерство среднего машиностроения» (впоследствии – Минатом) являлось одной из наиболее могущественных структур военнопромышленного комплекса. В 1957–1963 и 1965–1986 гг. его возглавлял один из наиболее влиятельных хозяйственных руководителей страны – Е. П. Славский. Конечно, это ведомство располагало немалыми материальными и людскими ресурсами, включая «спецконтингент», что, разумеется, не могло не сказаться на ходе строительства ННЦ.
Однако решающий перелом в строительстве произошел отнюдь не сразу после названной организационной трансформации, а лишь когда на стройку начались массовые поставки железобетонных конструкций (примерно с 1961 г.). В условиях, когда изменение ведомственного подчинения стройки явно не привело к кардинальному изменению ситуации, руководящие органы применили привычный метод кадровых перестановок. В феврале 1960 г. было принято решение об освобождении от обязанностей начальника «Сибакадемстроя» Л. Я. Губанова и назначении на этот пост Н. М. Иванова. В тот момент он являлся полковником, а позднее стал генерал-майором инженернотехнической службы.
Характерны черты биографии Николая Маркеловича Иванова, который после окончания в 1936 г. Саратовского автодорожного института был инженером отдела шоссейных дорог УНКВД Чкаловской области, во время войны занимал различные руководящие должности в военно-строительных частях. В мае 1946 г. он был направлен в Глав-промстрой МВД СССР – крупнейшую гулаговскую структуру – и вплоть до своего перевода в Новосибирск возглавлял разного рода строительные организации в системе исправительно-трудовых лагерей 4.
Нет сомнений, что Н. М. Иванов и его соратники внесли выдающийся вклад в строительство Академгородка, а «Сибака-демстрой» впоследствии превратился в крупнейшую строительную организацию не только Новосибирска, но и всей страны. Однако при этом, видимо, нельзя забывать, что передача строительства Города науки «ведомству наследников Берии», помимо определенной практической целесообразности, означала отказ от «нормальных» методов хозяйствования, возвращение к сталинским традициям. Если же вспомнить, что и система «спецснабжения» Академгородка («столы заказов») с 1960 г. также относилась к Средмашу, то это проливает некоторый дополнительный свет на историю нового научного центра.
Неоднозначные явления, отражавшие общие тенденции отечественного социума, имели место не только в ходе рождения
Академгородка, но и в его дальнейшей жизни. Особенно рельефно это прослеживается в социально-бытовой сфере наукограда. В ее становлении и развитии сложным образом взаимодействовали различные императивы. С одной стороны, здесь сказывались реалии послесталинской эпохи, «оттепели». Среди них, в частности, – некоторая либерализация политического режима, усиление внимание к социальным проблемам, а также огромный, небывалый престиж науки, надежды высшего руководства страны решить с ее помощью экономические проблемы. Отсюда – особое внимание к ученым, готовность пойти на серьезные расходы для обеспечения их эффективной работы.
В то же время сказывались исходные ориентиры социальной политики, сформировавшиеся в сталинский период и в той или иной мере сохранявшиеся в последующие годы, поскольку не изменилась система «сверхогосударствления», предполагавшая концентрацию всех ресурсов в руках высшего руководства. Это и определило важнейшие особенности социального развития Академгородка. К их числу следует отнести приоритетное значение централизованного финансирования решений центральных органов в развитии социальной сферы Новосибирского научного центра.
Процессы, происходившие в Академгородке, в чем-то в наиболее выпуклом свете отражали общие тенденции развития, а в чем-то опережали их. Так, скажем, высокая обеспеченность его жителей жильем и другими социальными благами в период «оттепели» еще не была типичной для основного населения страны. Однако в последующие годы было достигнуто нечто аналогичное, сформировался своего рода «советский средний класс» с соответствующими материальными и социально-психологическими параметрами.
Одно из немногих критических суждений о социальном развитии Академгородка было высказано в связи с самым крупным диссидентским выступлением в Академгородке – «письмом сорока шести» (1968 г.). В ходе его обсуждения в Институте геологии и геофизики А. И. Анатольева (кандидат, позднее д-р геол.-минерал. наук, супруга известного геолога чл.-корр. И. В. Лучицкого), в частности, сказала: «Я глубоко убеждена в существовании тайной организации. Была на банкете бардов – все проникнуто сионистским духом. Эти люди не думают о народе. Народ для них – быдло, подстилка для достижения своих корыстных целей. <…> Вопрос о закрытых формах обслуживания и в городке, и в городе, и во всей стране. Пора положить конец кастовости. На этом играют. Ленин жил и работал без закрытых магазинов и поликлиник…» 5.
Естественно, группы населения, не получившие доступа к «кормушке», выражали недовольство по этому поводу, что дало о себе знать уже в момент введения «столов заказов». Так, на IV партийной конференции Советского района (ноябрь 1960 г.) один из делегатов от рабочих говорил: «У нас неправильное положение существует в отношении стола заказов. Ведь что получается: в микрорайоне “А”, в микрорайоне “Д” есть стол заказов, но ведь там живет народ повыше рабочих, а вот в микрорайоне “Щ” живут рабочие, в основном строители, но там стола заказов нет, заказы от рабочих не принимаются. Спрашивается, почему такая разница? Выходит, что в микрорайонах “А” и “Д” могут кушать мясо, а в микрорайоне “Щ” пусть кушают картошку». Другая делегатка, жительница «Щ» отмечала: «Зайдите, попробуйте в любой из наших магазинов продуктовых, – шаром покати, ничего нет. <…> Организовали стол заказов. Но для кого? Для жен, которые не работают, высших начальников. А для рабочих ничего в этом столе заказать нельзя». Реагируя на эти суждения, первый секретарь райкома КПСС М. П. Чемоданов вынужден был признать: «У меня определенная точка на сей счет: в отношении района “Щ” это безобразие – такая дискриминация в обслуживании» 6. Однако, естественно, это осталось лишь риторической фразой, не имевшей практических последствий.
Система привилегий не могла не влиять и на отношение к Академгородку со стороны окрестного населения. Об этом ярко сказал в ходе упоминавшегося обсуждения «письма сорока шести» сотрудник Института цитологии и генетики Н. Н. Воронцов: «Новосибирск не привык к городку. Это не Москва и Ленинград с их столетними культурными традициями. Новосибирск нас ненавидит, и сейчас этим письмом воспользовались, чтобы выразить свое недовольство нашим привилегированным положением» [Берг, 2003 . С. 409]. Приведенное суждение фигурирует в опубликованной в книге Р. Л. Берг (в качестве приложения) стенограмме заседания закрытого ученого совета
Института цитологии и генетики СО АН СССР от 4 апреля 1968 г. К этому добавим, что автор данного высказывания впоследствии стал известным ученым и общественным деятелем (вице-президентом РАЕН, лауреатом Государственной премии СССР, народным депутатом первого перестроечного Верховного Совета, министром природопользования и охраны окружающей среды СССР, депутатом Госдумы).
Каково же было воздействие черт «мобилизационной модели», проявившихся в ходе становления Академгородка, на его развитие? Речь идет прежде всего о привилегированном положении его населения и иерархии в обеспечении материальными благами. Думается, что как и все основополагающие институты существовавшей в то время в нашей стране общественной системы, это влияние было противоречиво.
С одной стороны, здесь имелись определенные позитивные моменты. Прежде всего, таким образом поддерживались приоритетные сферы общества, в данном случае – наука. Далее, – обеспеченность научных сотрудников на достойном уровне социальными благами рождало чувство уверенности и собственного достоинства, без чего невозможно и зарождение гражданского сознания.
В то же время привилегии и иерархия имели свои неминуемые негативные последствия. Это в том числе – карьеризм, стремление любой ценой обосноваться в Академгородке с его благами, независимо от научных талантов и заслуг. В итоге это еще раз продемонстрировало долговременную неэффективность иерархической, по существу, феодальной организации общества. Привилегий никогда не хватит на всех, поэтому социальный слой, пользующийся привилегиями, неизбежно разбухает, а ценность привилегий подвергается «инфляции». Такова и была судьба Академгородка. Понятно, что все это не могло не сказываться на эффективности основной профессио- нальной деятельности научного сообщества в сторону ее понижения.
Таким образом, хотя создание новосибирского Академгородка произошло в годы «оттепели» и во многом было определено ее императивами, оно в известной мере испытало воздействие «мобилизационной модели», господствовавшей в сталинский период.
THE CREATION OF NOVOSIBIRSK AKADEMGORODOK IN THE CONTEXT OF «THE MODEL OF MOBILIZATION»