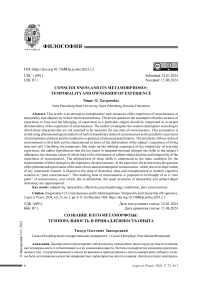Сознание и его метаморфозы: темпоральность и принадлежность опыта
Автор: Завгородний Т.О.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Данная статья представляет собой попытку осмысления таких структур опыта сознания, как темпоральность и субъективность в их взаимосвязанности. В статье подвергается сомнению предположение о том, что расположенность опыта во времени и принадлежность опыта конкретному субъекту должны быть истолкованы в качестве инвариантных характеристик опыта сознания. Автор исследует контрпредположение, в соответствии с которым указанные характеристики не полагаются необходимыми для всякого состояния сознания. Проверка данного предположения осуществляется с помощью феноменологического анализа таких экстраординарных состояний сознания, как психотический опыт больных шизофренией и медитативный опыт продвинутых практикующих. Сходство указанных состояний сознания заключается в том, что оба могут быть охарактеризованы с точки зрения деформации опыта проживания субъектом времени и самого себя. Уточняя параметры, из которых составляется привычное переживание субъективности повседневного опыта, автор выдвигает гипотезу о том, что ключевым фактором темпорально-личностных изменений являются сдвиги в аффектации субъекта, предельные значения которых ведут к устранению субъект-объектного дуализма и темпоральности опыта сознания. Произвольность этих сдвигов понимается как основное условие травматичности указанных изменений в опыте сознания. При этом в статье поднимается вопрос о феноменологическом статусе состояния недуального и атемпорального сознания, которое, ввиду своей лишенности какого бы то ни было интенционального содержания, уподобляется состоянию сна без сновидений и концептуализируется в современных когнитивных науках в качестве «чистого сознания». Полученное состояние сознание предлагается мыслить как «нулевую точку» сознания, над которой, вследствие аффектации, надстраиваются привычные структуры темпоральности и субъект-объектной дихотомии.
Субъективность, темпоральность, аффективность, психопатология, медитация, чистое сознание
Короткий адрес: https://sciup.org/149146836
IDR: 149146836 | УДК: 1(091) | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.2.1
Текст научной статьи Сознание и его метаморфозы: темпоральность и принадлежность опыта
DOI:
Цитирование. Завгородний Т. О. Сознание и его метаморфозы: темпоральность и принадлежность опыта // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 2. – С. 6–15. – DOI:
Всякий сознательный опыт обладает рядом общих черт: во-первых, предполагается некое содержание (« о чем » опыта), во-вторых, качественность (« как » опыта), в-третьих, приватность (« чей » опыта). Более того, всякий опыт сознания отличает непрерывность: опыт не предстает в виде отдельных фрагментов, но образует единый поток восприятий, мыслей, эмоций и т. д. Однако опыт изменчив, что позволяет вести речь об измененных состояниях сознания. Но насколько далеко могут простираться такие изменения и какие структуры сознания они способны затрагивать?
Раз в год множество людей, выходя на улицу, отмечает внутри себя переживание наступления весны. Вместе с тем ни один из элементов этого множества переживаний не может быть сведен к другому: в моем переживании (наступления весны, утренней чашки кофе, волнения перед публичным выступлением) присутствует некое неповторимое «как», воспроизведение которого на ином «носителе» без утраты его феноменального существа не представляется возможным. Д. За-хави [Zahavi 2019, 732] указывает на то, что сопровождаемость всякого опыта сознания неким «как» подразумевает субъект, в отношении которого это «как» только и может быть пережито. Иными словами, всякое переживание может быть исключительно «чьим-то» переживанием и обречено быть воспринятым в контексте определенной и в известном смысле уникальной позиции своего владельца, фундирующей его феноменологический окрас 1. Однако во всех ли случаях сознание налагает на опыт присваивающую характеристику?
Для ответа на этот вопрос я предлагаю исследовать опыт его экстраординарных состояний (таких как психотический опыт больных шизофренией и медитативный опыт), поскольку в основании данного исследования лежит глубокое убеждение о том, что изучение патологических и девиантных феноменов способно не только служить демонстрацией уместности феноменологического анализа субъективности, но и расширить текущее понимание природы сознания. Данное исследование ставит перед собой следующие задачи:
-
I. Продемонстрировать, что присваивание содержания опыта НЕ является обязательной чертой самого опыта сознания – с целью чего на примере экстраординарных состояний сознания и на концептуальном фундаменте трудов современных психиатров-феноменологов будет произведен анализ механизмов возникновения (I.I) и разрушения (I.II) чувства субъективной принадлежности содержания опыта, а также коррелятивной этому чувству его длительности.
-
II. Выявить структуры сознания, обеспечивающие наличие сообщаемого феноменального опыта у лиц, по тем или иным причинам утративших чувство мойности содержа-
- ния опыта и отмечающих в этой связи нарушения в привычном ощущении его длительности.
-
III. Поставить вопрос о феноменологическом статусе не-дуальных, а-темпоральных и некоммуницируемых состояний сознания.
-
IV. Сформулировать вывод об условиях структурно-функциональных сдвигов в опыте повседневного сознания, позволяющих выделить план, модус сознания, лишенный признаков субъект-объектного дуализма, темпоральности и какого бы то ни было интенционального содержания, характерных для модуса его повседневного феноменального существования.
I
Начнем с психотического опыта 2 больного шизофренией. Согласно отчетам таких больных [Fuchs, van Dupen 2017, 70] обычной составляющей их психотических приступов является элемент деперсонализации: собственные мысли больные склонны принимать за чужие, равно как и полагать свои действия направляемыми извне. Вторым случаем будет опыт высших стадий буддийской медитации 3, доступных продвинутым практикующим, из самоотчетов которых исследователям известно [Costines, Borghardt, Wittmann web], что состояния сознания, достигаемые на некоторых стадиях, также отмечены «анонимностью». Отметим, что, в отличие от анонимизации опыта находящегося в состоянии психотического приступа больного шизофренией, исчезновение присваивающего механизма самости в медитации позиционируется способом прекращения страданий.
Помимо обозначенного сходства переживаний больного шизофренией и опытного ме-дитатора в части деформации чувства при-своенности (sense of ownership) содержания опыта параллели можно также проследить в специфике опыта темпоральности указанных лиц. Отчеты о психотических приступах больных шизофренией наполнены информацией о субъективно переживающейся «остановке времени», его «застывании», а также «застревании» больного в модусе настоящего или, напротив, его «засасывании» в прошлое [Fuchs, van Dupen 2017, 70]. С другой стороны, о «выпадении» из временного континуума говорят и опытные медитаторы [Gutierrez et al. web].
Выявленное сходство переживаний приводит к вопросу об их структурной взаимосвязанности; однако прежде попытки прояснить механизм распада личностного и темпорального переживания необходимо попытаться представить себе механизм его образования.
I.I
Следуя размышлениям Гуссерля [Гуссерль 1994, 32], существование Я оказывается самым тесным образом связанным с темпоральной структурой опыта, являющегося синтезом трех моментов: импрессии (актуального «сейчас» моего восприятия), ретенции (прошедшего «уже» моего восприятия), про-тенции (ожидаемого «еще не» моего восприятия). Дорефлективной включенностью ретенции и протенции в импрессию и обусловлено единство потока восприятия как в смысле тождества воспринимаемого, так и в смысле самотождества воспринимающего: именно идущий в обход рефлексивного сознания синтез ретенций и протенций в импрессии и обеспечивает связывание разрозненных моментов опыта в единое целое. Прояснением может служить восприятие речевого акта: мы слышим слова, «сейчас» произносимые нашим собеседником, однако сознание также удерживает «уже» сказанное и предвосхищает то, чего он «еще не» сказал, формируя из набора звуков осмысленную последовательность. Но что же заставляет меня мыслить эту последовательность как принадлежащую МНЕ?
Направленность сознания на речевой акт моего собеседника есть функция поперечной интенциональности 4. Ею, однако, пререфлек-тивная работа сознания не ограничивается: помимо конституирования временнóго объекта восприятия в синтезе импрессии, ретенции и протенции тем же самым образом сознание конституирует само себя. Акт, в рамках которого я конституирую собственное «уже» и «еще не» (позволяющие мне полагать себя как того, КОМУ уже было нечто сказано и КОМУ нечто еще не было сказано), называется продольной интенциональностью 5. Таким образом, сознание вовсе не нуждается в отдельном (в смысле, несовпадающем во времени с первичной импрессией) рефлексивном акте для того, чтобы быть самосознанием, обеспечивающим тождество потока восприятия 6.
Еще одной важной характеристикой временного потока, помимо «когнитивной» двунаправленной (продольной и поперечной) и трехаспектной (импрессивной, ретенциальной и протенциальной) интенциональности, является его аффективность [Fuchs, van Dupen 2017, 72]. Направляясь к своим объектам (тем более к себе самому), сознание редко остается безучастным. Стремление к приятному и бегство от неприятного, привязанность к внутримирному сущему и забота о нем составляют суть феноменального сознания. Таким образом, составляющими интенциональной дуги – идеи Мерло-Понти, призванной снять субъект-объектную дихотомию акта восприятия, широко используемую современными психиатрами и закрепляющую целокуп-ность Dasein – представляются структурный компонент (интенциональность) и аффективное напряжение, служащее драйвом деятельности сознания.
I.II
Каким же образом происходит распад личностного восприятия с точки зрения его темпоральности и мойности при психотическом приступе больного шизофренией? В современных исследованиях намечены две линии объяснения указанных «сдвигов» в структуре и функционировании повседневного сознания, соответствующие выделенным характеристикам интенциональности и аффектив-ности темпорального потока. Согласно первой из них [Fuchs, van Dupen 2017, 73], интенциональная дуга больного шизофренией оказывается деформированной вследствие разрушения единства внутреннего сознания времени в силу ослабления протендирующей функции. Протенция понимается в терминах «воронки вероятности», берущей начало в настоящем и расширяющейся в направлении будущего: внутри центральной части воронки располагаются события, отмеченные большей ожидаемой вероятностью, тогда как по мере приближения к ее краям субъективно осознаваемая возможность их наступления тает. Про-тенциальное предвосхищение зависит от ре- тенций, импрессий и интенций субъекта. Гипотеза ослабевающей протенции опирается на предположение о том, что с целью осуществления интенционального акта (например, говорения) субъект вынужден фокусировать свое внимание на последующих, наиболее подходящих (и, следовательно, вероятных) компонентах своего высказывания. Соответственно, протенциальные нарушения лишают его такой возможности, что ведет к вторжению в его сознательную деятельность иррелевантных идей и побуждений. Таким образом, например, феноменологически-ориенти-рованными психиатрами объясняется речевая бессвязность – один из симптомов шизофрении.
С другой стороны, воспринимаемая «изнутри» фрагментация внутреннего сознания времени и последующая деформация интенциональной дуги переживаются больным как возникновение в его сознательном опыте неожиданных – и, следовательно, не принадлежащих, не подконтрольных ему элементов. Феноменологически данные ему исключительно в порядке ретенции и импрессии, они воспринимаются больным как приходящие из ниоткуда, тогда как сама ретенциальная ориентированность актуально воспринимающего сознания переживается как замедление последнего, контрастируя со скоростью событий, мыслей и ощущений, вторгающихся в его сознание извне. Таким образом, разрушение темпорального синтеза, с одной стороны, ведет к разрушению единства потока переживаний (и в этом состоит деформация поперечной интенциональности), с другой стороны – к разрушению единства субъекта как самотожде-ственного обладателя этих переживаний (что отражает симметричное разрушение продольной интенциональности).
Выражая согласие с тем, что изменения в переживании времени при шизофрении фундируют ее психотические симптомы, критики этой теории выдвигают предположение о том, что изменения касаются не структурной части (с их точки зрения, это делало бы невозможным сам опыт от первого лица, совпадающим с объединенным временным потоком – тогда как пациенты как-то же могут давать отчеты о таком опыте), но аффективной [Sul 2022, 928].
Пояснение этой позиции требует одного замечания о природе ретенции, в отношении которой возникает следующий вопрос: каким образом в ретенции уже-прошедший момент сознания интендирован именно как уже прошедший? Основанием такой дифференциации является степень аффектации сознания временными модусами [Husserl 2001, 277]: в наибольшей степени наше внимание захвачено настоящим моментом, тогда как прошлый момент (в условиях нормального, не патоло-гизированного сознания) уступает ему по этому параметру. Именно различие в аффектирующей интенсивности позволяет различать импрессию от ретенции и, соответственно, настоящее от прошлого; другими словами, ретенция есть не просто схватывание уже-прошедшего, но схватывание, отмеченное преуменьшенной аффективной интенсивностью схватываемого момента сознания, что и позволяет говорить о нем как о прошедшем – что, в свою очередь, является основанием для конституирования единства временного потока как единства его отдельных частей.
Выходит, с этой точки зрения, сознание больного шизофренией по-прежнему интенди-рует собственное уже-прошедшее и еще-не-наступившее (что позволяет пациентам давать отчеты о своих расстройствах, то есть обращаться к своему фрагментированному опыту) – и тогда изменения в восприятии времени при психотическом приступе могут быть атрибутированы расстройству аффективной модификации в смысле невыполнения ретенцией функции преуменьшения аффективной интенсивности ретендированного момента уже-прошедшего момента сознания.
Между тем едва ли можно вести речь о том, что достижение медитаторами состояний сознания, в которых привычный темпоральный проток претерпевает существенные видоизменения – вплоть до его полного уничтожения, сопоставимого с переживаниями остановки времени у больных шизофренией – связано с направленным воздействием на собственное сознание в аспекте структуры ретенций / про-тенций. Точкой входа в медитативную практику является повседневное сознание, и прямое воздействие на его ретенциально-протенциальную структуру, действующую на пререфлективном уровне, не представляется возможным.
Второй способ объяснения деформации темпорального потока / переживания собственного Я медитатора предполагает воздействие на его функциональную, аффективную составляющую. С одной стороны, в ее отношении сохраняет свою актуальность уже высказанное сомнение в возможности рефлексивного, сознательно-направленного воздействия на пререфлективно и пассивно протекающие процессы. С другой стороны, сама суть безоценочного активного наблюдения за изменяющимся содержанием своего сознания заключается в попытке перевести сознание из пассивного (то есть аффективного) модуса его течения в модус активности путем приложения известного усилия [Arbel 2017, 4]. Следуя этой гипотезе, распад субъекта как самотож-дественного «владельца» потока своих переживаний, сопровождающийся распадом его вре-меннóй структуры, оказывается связанным с провоцируемой поддерживаемым в течение некоторого времени усилием приостановкой аффективного, то есть пассивного функционирования сознания, присваивающего свои объекты и привязывающегося к ним (эмпирическим подтверждением данной гипотезы служат многочисленные нейрофизиологические свидетельства, фиксирующие преобладание активности неокортекса, ассоциируемого с когнитивными функциями, над активностью лимбической, по-требностно-эмоциональной системы ЦНС у опытных медитаторов [Holzel et al. 2011, 11]). Субъект, обнаруживаемый как субъект нехватки, желания и страсти – pathos’а – совершает апатическое самоубийство.
II
Что же остается на месте исчезающего субъекта? Ведь как в случаях психотических эпизодов больных шизофренией, так и в состоянии медитации участниками исследований сохраняется способность к самоотчетам: говоря о существенных изменениях в осознании принадлежности переживаний, они, тем не менее, не отрицают наличия этих переживаний. А значит, можно говорить об опыте сознания, пусть даже и лишенном привычной мойности и отмеченным искаженной темпо-ральностью. Следовательно, вслед за современными исследователями феноменального опыта Я [Guillot 2017, 25], необходимо провести дифференциацию его аспектов. Как правило, действующая на пререфлективном уровне минимальная самость 7, делающая возможным проживание какого-либо опыта в субъективности его «как» без обращения к рефлексии, описывается в нескольких близких по смыслу терминах для-меняйности (for-me-ness), меняйности (me-ness) и мойности (mineness). Первый соответствует смыслу явленности опыта, его манифестированности определенным образом; второй выделяет в этом опыте его субъекта, тем самым, объективируя его; третий является своего рода комбинацией первых двух, призванной зафиксировать этот опыт в качестве принадлежного определенному субъекту.
Экстраординарные состояния способны пролить свет на эти различия: больной шизофренией, находящийся в состоянии деперсонализации во время психотического приступа слышит голос (то есть отдает отчет о его манифестации), тогда как чужесть этого опыта не позволяет выделить в нем субъекта и, следовательно, высказаться о каком-либо субъекте как о владельце голоса. Точнее, при сохранении для-меняйности (for-me-ness) опыта (подтверждением чему служит возможность больного сообщить о своем переживании), наблюдается расщепление его меняйности (me-ness), вследствие чего его переживание претерпевает болезненную деформацию в аспекте мойности (mineness) отдельных его событий.
Схожим образом, по достижении глубоких стадий медитации, сознание практикующего сохраняет способность к восприятию некоего «как» своего переживания, не выделяя себя в качестве его субъекта и, следовательно, не приписывая себе обладания этим переживанием. Сказанное подтверждается описанием опыта медитирующего: достижение первой дхъяны элиминирует его самого как субъекта желания [Arbel 2017, 44], однако до второй дхъяны, отмеченной исчезновением объекта мысли и дискурсивного мышления об объекте, субъект сохраняет себя в качестве субъекта мышления, тогда как различать самого себя как субъекта восприятия он способен вплоть до четвертой дхъяны – до достижения им феноменального качества невозмутимости [Arbel 2017, 124]. По мере продвижения медитатора по указанным ступеням в сворачивающем свою активность сознании пропадают феноменальные качества телесного удовольствия и радости, тогда как он сам претерпевает изменения в переживании времени и самого себя как противопоставленного мыслимым / воспринимаемым им формам [Lindahl, Britton 2019, 180]. Другими словами, достижение практикующим первой дхъяны вследствие безоценочного наблюдения за объектами одной из четырех областей феноменального поля (тела, чувств, ума и ментальных объектов) характеризуется устранением аффекта, что и элиминирует его как субъекта желания: направленность его сознания к своим объектам лишается аффективного переживания заботы об этих объектах, так как они более не переживаются в аспекте принадлежности его сознанию (mineness). Достижение же им второй дхъяны, в соответствии с сутрами характеризующейся угасанием дискурсивного мышления и вытекающим отсюда единством ума, отражающим неразличимость субъекта и объекта, снимает с его субъективности один слой – me-ness. Третья и четвертая дхъяна представляют пространство дальнейшего развития невозмутимости ума в отношении его новых феноменальных качеств (вплоть до четвертой дхъяны сутры предписывают практикующему переживание радости, в конечном итоге и устраняемой невозмутимостью), что постепенно приводит к разрушению какой бы то ни было для-меняй-ности (for-me-ness) переживаний 8.
Таким образом, в терминах предложенной дифференциации for-me-ness, me-ness и mineness, можно сказать о сохранении восходящим по ступеням Пробуждения (вплоть до перехода с четвертой ступени на девятую, соответствующую нирваническому, неразличающему сознанию) сознанием для-меняйно-сти, перспективы, наличие которой и делает возможным перенаправление интеллектуального усилия с одного объекта на другой или на условия его мыслимости – что и позволяет ему описывать опыт своих переживаний.
III
Можно ли что-либо сказать о последнем шаге, девятой дхъяне? Уместно ли говорить о том, что пребывание в ее пространстве отмечено неким «как» и «что»? Описываемый в исследованиях опыта медитаторов [Costines, Borghardt, Wittmann web], способных достичь этой стадии, в терминах не-дуальности сознания (то есть устранения из него субъекта, способного в своей темпоральности фиксировать какие-либо изменения в переживаниях), этот опыт уподобляется состоянию сна без сновидений и в современной литературе понимается как состояние «чистого сознания», лишенного не только аффективного отношения субъекта к содержанию своего сознания, но и самого интенционального содержания: ничего и ни к чему более никак не направляется. Наиболее характерная черта отчетов об «опыте» чистого сознания – преобладание в них существительных и наречий в форме отрицания, что свидетельствует об отсутствии интенционального содержания. Оно не может быть характеризовано ни опытом минимальной самости, ни наличием субъективной перспективы наблюдения, что делает его полностью анонимным.
Однако если этот опыт представляется полностью анонимным, существует ли возможность составить о нем субъективный феноменологический отчет? Возможна ли феноменология пустоты? Лама Тильманн Лхундруп Бог-рарт в своих отчетах [Costines, Borghardt, Wittmann web] об этой стадии медитации предлагает различать два состояния: абсолютной пустоты и минимальной. В отношении первой ничего не может быть сказано, так как сама суть чистого сознания с отсутствующими в нем категориями субъекта и объекта состоит в невозможности иметь о нем знания. О его действительности можно утверждать лишь на основании возникающего по его прекращении переходного состояния между абсолютной пустотой и обычным феноменальным сознанием минимальной пустоты, также недуальным, но имеющим феноменальные характеристики освещенности (luminosity) и вибрации (отражающей его динамизм, но не в терминах времени, так как для последнего необходимо наличие субъекта). Помимо того, косвенным образом в пользу характеристики состояния абсолютной пустоты именно как состояния сознания, а не его отсутствия, Лама Борградт [Costines, Borghardt, Wittmann web] высказывается на основании чувства свежести, сопутствующего возвращению к привычному состоянию – что уподобляет абсолютную пустоту опыту сна без сновидений 9.
IV
Сходство опытов шизофрении и некоторых стадий медитации в аспектах переживания темпоральности и принадлежности опыта в соединении с попыткой феноменологического объяснения механизмов изменения этих переживаний в сравнении с повседневным сознанием позволяет пролить свет на условия этих изменений: как в одном, так и в другом случае, вероятно, имеет место пошаговая деконструкция субъективного интенционального опыта как суммы шагов-переживаний for-me-ness, me-nеss и mineness и параллельное разрушение внутреннего сознания времени вследствие воздействия на аффективную составляющую переживаний, происходящую либо посредством волевого воздействия субъекта, либо являющуюся следствием патологии. Вероятно, именно намеренность / ненамеренность участия субъекта в собственном устранении, его готовность / неготовность к перевороту сознания, устраняющего перечисленные структуры, является фактором переживания последующих феноменологических изменений как приносящих радость или страдание.
Отчасти, сделанное предположение о роли субъекта в изменении состояния своего сознания подтверждается исследованиями, посвященными изучению влияния практик медитации на переживание пациентами с диагностированной шизофренией психотического приступа. Так, показано [Dyga, Stupak 2015, 50], что обычной реакцией таких пациентов на появление посторонних голосов и параноидального бреда является конфронтация, свидетельствующая о естественном сопротивлении Я пациента посторонним переживаниям; в этом контексте медитация осозанности, позволившая пациентам взглянуть на свое Я как на менее жесткую и неподдающуюся изменениям структуру, поспособствовала принятию и облегчению их симптомов.
Наконец, описание опыта продвинутых медитаторов, наряду с раскрытием механизмов направленного и поэтапного разрушения субъективности и темпоральности в ходе этой практики, соотносящихся в смысле своих феноменологических переживаний с опытом больных шизофрений (что свидетельствует о задействовании одних и тех же структур сознания, описываемых в современной литературе в терминах для-меняйности, меняйно-сти и мойности), позволяет сделать предположение о наличии иного модуса существования сознания. Если в повседневной жизни сознание «разворачивает» свое интенциональное содержание на основе субъект-объектной дихотомии и «размещает» его во времени, то в некоторых экстраординарных состояниях такого разворачивания не происходит. Несмотря на отсутствие возможности описания данного опыта, именуемого состоянием абсолютной пустоты, лишенности какого бы то ни было интенционального содержания, субъективной перспективы и темпоральнос-ти, наличие его пост-эффектов, наблюдаемых в транзитивном состоянии минимальной пустоты (освещенность, вибрация) позволяет говорить о нем как о «нулевой точке» сознания, пространстве, служащем основой для последующего появления в нем феноменов темпо-ральности и субъект-объектной дихотомии. Отсюда можно выдвинуть гипотезу о взаимообусловленности феноменов субъективности и темпоральности, качественным образом отличающих повседневных модус от экстраординарного. Рассмотрение связи этих феноменов на языке сознания (например, в виде вопроса о том, каким образом субъект, структурированный двойной интенциональностью и аффективностью, «вводит» в сознание темпо-ральность) может стать предметом дальнейшего исследования.
Список литературы Сознание и его метаморфозы: темпоральность и принадлежность опыта
- Гуссерль 1994 - Гуссерль Э. Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени. М.: Гнозис, 1994.
- Тиганов (ред.) 1999 - ТигановА.С. (ред.). Руководство по психиатрии. В 2 т. Т. 1. М.: Медицина, 1999.
- Чернавин 2010 - Чернавин Г.И. Генезис сознания времени и первичная фактичность: к феноменологической метафизике времени Э. Гуссерля // Логос. 2010. № 5. С. 125-137.
- Arbel 2017 - Arbel K. Early Buddhist Meditation: The Four Jhanas as the Actualization of Insight. London; New York: Routledge, 2017.
- Costines, Borghardt, Wittmann web - Costines C., Borghardt T.L., Wittmann M. The Phenomenology of "Pure" Consciousness as Reported by an Experienced Meditator of the Tibetan Buddhist Karma Kagyu Tradition. Analysis of Interview Content Concerning Different Meditative States // Philosophies. 2021. № 2. Р. 50 // https:// www.mdpi.com/2409-9287/6/2/50
- Dyga, Stupak 2015 - Dyga K., Stupak R. Meditation and Psychosis: Trigger or Cure? // Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2015. № 3. Р. 48-58.
- Fuchs, van Dupen 2017 - Fuchs T., van Dupen Z. Time and Events: On the Phenomenology of Temporal Experience in Schizophrenia // Psychopathology. 2017. № 50. P. 68-74.
- Guillot 2017 - GuillotM. I Me Mine: On a Confusion Concerning the Subjective Character of Experience // Review of Philosophy and Psychology. 2017. № 8. P. 23-53.
- Gutierrez et al. web - Gutierrez D.L., Schmidt S., Meissner K., Wittmann M. Changes in Subjective Time and Self During Meditation // Biology. 2022. № 11 (8). P. 1116 // https://www.mdpi.com/2079-7737/11/8/1116
- Holzel et al. 2010 - Holzel B.K., Carmody J., Evans C.K., Hoge E.A., Dussek J.A., MorganL., Pitman R.K., Lazar S.W. Stress Reduction Correlates with Structural Changes in the Amygdala // Social Cognitive and Affective Neuroscience. 2010. № 5. P. 7-11.
- Husserl 2001 - Husserl E. Analyses Concerning Passive and Active Synthesis: Lectures on Transcendental Logic. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001.
- Lindahl, Britton 2019 - Lindahl J.R., Britton W.B. Buddhist Meditation and Changes in Sense of Self // Journal of Consciousness Studies. 2019. № 26. P. 157-183.
- Sul 2022 - Sul J.R. Schizophrenia, Temporality, and Affection // Phenomenology and Cognitive Sciences. 2022. № 21. P. 927-947.
- Thompson web - Thompson E. Dreamless Sleep, the Embodied Mind, and Consciousness // Metzinger T., Windt J.M. (eds.). Open MIND: 37(T). Frankfurt am Main: MIND Group, 2015 // https://d-nb.info/ 1123080488/34
- Zahavi 2014 - Zahavi D. Self and Other. Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Zahavi 2019 - Zahavi D. Consciousness and (Minimal) Selfhood: Getting Clearer on for-me-ness and Mineness // Kriegel U. (ed.). The Oxford Handbook of the Philosophy of Consciousness. Oxford: Oxford University Press. 2019. P. 732-753.