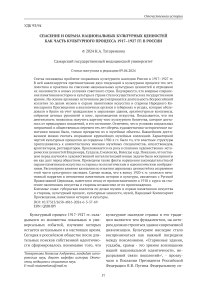Спасение и охрана национальных культурных ценностей как часть культурного процесса 1917–1927 гг. в России
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме сохранения культурного наследия России в 1917-1927 гг. В ней анализируется противостояние двух тенденций в культурном процессе тех лет: политика и практика по спасению национальных культурных ценностей и отрицание их значимости в новых условиях советского строя. Подчеркнуто, что впервые сохранение памятников истории и культуры в стране стало осуществляться на государственном уровне. На основе архивных источников рассматривается деятельность Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины Народного Комиссариата Просвещения и аналогичных органов в губерниях и уездах, которые обследовали и брали на учет гражданские и церковные здания, архитектурные комплексы, собрания ценных рукописей и книг, произведения искусства. Показывается, что эта деятельность позволила получить картину того культурного богатства, которое досталось от предыдущих поколений, и его состояние. Отмечено, что в условиях социальных потрясений и общественных перемен тех лет сберечь художественно-исторические памятники можно было, только превратив их в музейные объекты. Важнейшим достижением можно считать сохранение крупнейших музейных коллекций. Характерной чертой культурных процессов до середины 1920-х гг. было то, что властные структуры прислушивались к компетентному мнению музейных специалистов, искусствоведов, архитекторов, реставраторов. Прослеживается их роль в спасении художественно-исторических ценностей Владимира, Суздаля, Смоленска, Вологды и др. Показано, что вставшие перед научной и художественной интеллигенцией новые задачи были восприняты ею как долг перед обществом. Приведены также факты нарушения законодательства об охране памятников искусства и старины по политическим и идеологическим соображениям. Рассмотрено влияние кампании по изъятию церковных ценностей на сохранение этой части культурного наследия. Сделан вывод, что к концу 1920-х гг. усилился негативный нарратив в отношении памятников истории и культуры, связанных с Русской Православной Церковью, наметился отход от провозглашенного в 1918 г. курса на спасение памятников искусства и старины независимо от их происхождения.
Губернская коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины, культурный процесс, культурные ценности, музей, народный комиссариат просвещения, памятники истории и культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/148330834
IDR: 148330834 | УДК: 93/94 | DOI: 10.37313/2658-4816-2024-6-3-57-69
Текст научной статьи Спасение и охрана национальных культурных ценностей как часть культурного процесса 1917–1927 гг. в России
культурное наследие страны и его традиции являются тем фундаментом, на котором должно строиться здание современной цивилизации. Культурное наследие стало восприниматься как важный посредник между поколениями. «Старинные здания, усадьбы, храмы - это зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений»1, - прозвучало в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному со- бранию 29. 02. 2024 г. Однако путь к такому пониманию оказался довольно долгим и неоднозначным. Научный интерес представляет начальный этап этого пути, когда друг другу противостояли с одной стороны - политика и практика по спасению и охране национальных культурных ценностей, а с другой – отрицание их значимости в новых условиях советского строя.
Источниковой базой исследования послужили материалы центральных и областных архивов Российской Федерации. На основе анализа, систематизации, сравнения архивных данных, а также открытых источников ставится цель – исследовать обозначенные выше противоположные тенденции в культурной жизни страны 1917-1927 гг., выявить, какая из них стала определяющей к концу интересуемого нас периода. Индуктивный метод позволит из ряда локальных событий, связанных со спасением культурных ценностей, выявить определенные закономерности и характерные особенности культурного процесса первого послереволюционного десятилетия.
В апреле 1918 г. прозвучало воззвание Народного Комиссариата художественноисторических имуществ Республики, обращенное ко всем депутатам Советов и земельным комитетам, об организации местных комиссий по охране памятников искусства и старины. Оно носило программный характер, поскольку формулировало отношение новой власти к культурному наследию: каждый памятник старины и произведение искусства «мы сохраним для себя и для потомства, для человечества». Охрана «остатков истории» и памятников искусства объявлялась долгом каждого гражданина. Советам на местах как носителям власти вменялось в обязанность принять все меры к охране исторических зданий и особняков, коллекций, библиотек, архивов и пр. В воззвании предлагалось создать уездные, губернские и областные комиссии по охране памятников искусства и старины с привлечением в них художников, архитекторов, музейных специалистов, археологов, библиофилов, известных любовью к своему делу и посвятивших ему свою жизнь. Перед комиссиями была поставлена задача приступить к организации охраны и учета народных сокровищ2. Таким образом, впервые сохранение памятников истории и культуры в России стало осуществляться на государственном уровне.
В первые годы после революции подотдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины Народного Комиссариата Просвещения (далее – Наркомпрос) обследовал и взял на учет около 3 тыс. памятников архитектуры, из которых более 1100 были гражданскими зданиями, более 1500 – церковными и около 200 – зданиями монастырей и Кремлей3. Так, уже к осени 1918 г. в ведение музейных отделов были приняты Вологодский, Ростовский, Новгородский, Смоленский, Псковский кремлевские архитектурные комплексы4.
Документы свидетельствуют, что в ряде мест организация подотделов (либо комитетов) по делам музеев и охране памятников искусства и старины губернских и уездных отделов народного образования проходила на основе существовавших там ранее художественно-археологических или архивных комиссий. Так, в мае 1918 г. состоялось организационное заседание Владимирского комитета по охране памятников искусства и старины, на котором присутствовали представители местной власти – губернский комиссар финансов Г.С. Берлин, комиссар по народному образованию Лефедов, бывшие активные члены Владимирской ученой архивной комиссии – В.Г. Добронравов, Н.В. Малицкий, А.В. Смирнов, а также И.М. Херасков, занимающийся историей Владимирского края, местные художники и преподаватели искусств – Х.В. Медведков, Н.Н. Николаев, С.И. Парфенов и др. Г.С. Берлин от лица Совета заявил, что находит безусловно необходимым бережное отношение к памятникам старины и комитет по охране памятников может рассчитывать на содействие и материальную поддержку. Его председателем был избран И.М. Херасков5.
О роли Н.В. Малицкого в спасении культурных ценностей Владимирской губернии речь шла в одной из наших публикаций6 и других исследованиях7.
Владимирская губернская ученая архивная комиссия существовала в 1898–1918 гг. Опыт ее специалистов сыграл важнейшую роль в деле сохранения памятников истории и культуры как в дореволюционный период, так и после Октября 1917 г. Они приняли на хранение в губернский музей коллекцию церковных древностей из древлехранилища братства Александра Невского, собрание ценных рукописей и старопечатных книг. Благодаря этим поступлениям Владимирский Исторический музей, открытый для посетителей, стал вызывать у них гораздо больший интерес. Понимая, что усилий специалистов комитета по охране памятников будет явно недостаточно для выполнения поставленных перед ним задач, они обратились ко всем жителям Владимирской губернии с воззванием принять участие в охране памятников искусства и старины, разослав его по всем уездам8.
Внимание со стороны Наркомпроса к Владимирской губернии как к одному из центров древнерусской культуры было значительным. Об этом говорит тот факт, что в августе 1918 г. преобразование Владимирского комитета по охране памятников старины в коллегию по делам музеев было поручено И.Э. Грабарю, известному художнику и реставратору, заместителю председателя Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины9. Ее руководители и ведущие специалисты и в последующем неоднократно приезжали во Владимир для оказания помощи местным музейным работникам. Наркомпрос определил сферу деятельности губернских коллегий: заведывание музеями, реорганизация существующих и организация новых музеев в губернии; принятие всех мер охраны памятников искусства и старины, их регистрация и взятие на учет; создание губернских музейных фондов, составленных из всех принятых на учет художественно- исторических ценностей, для целесообразного распределения их во всероссийском масштабе10.
Владимирская губернская коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины активно включилась в решение поставленных задач. Когда в январе 1919 г. выяснилось беспризорное состояние уникального шедевра древнерусской архитектуры XII в. -Дмитриевского собора, по решению коллегии были проведены переговоры с духовным ведомством и выделены средства на оплату труда сторожа при соборе. В марте того же года коллегия приняла под охрану государства церковь Покрова на Нерли и палаты Андрея Боголюбского11.
В августе 1919 г. стало известно о расхищении ризницы Спасо-Евфимиева монастыря в г. Суздале, история которого восходит к середине XIV в. Ситуация становится понятной исходя из ее предыстории. После Октября 1917 г. органами советской власти у монастыря были конфискованы все денежные средства, ценные бумаги и недвижимость (мельница, земли, хозяйственный инвентарь, скот), 13 насельников были выселены из обители. С осени 1918 г. по февраль 1919 г. в монастыре находилась Суздальская ЧК. До своего окончательного закрытия в феврале 1923 г. монастырь фактически пустовал, что и создавало угрозу его культурно-историческим и художественным ценностям из-за отсутствия охраны. Подозреваемым в деле о хищениях из ризницы монастыря стал иеромонах Матфей12. В настоящее время трудно сказать, что им двигало: желание спасти сокровища монастыря или чисто меркантильный интерес. Возможно, что просто нашли того, на кого можно было возложить вину за хищения. Очевидно одно: политика новой власти по отношению к церкви отрицательно повлияла на сохранность ее культурных богатств. В этих условиях Владимирская губернская музейная коллегия старалась сделать все от нее зависящее, чтобы сохранить монастырские памятники старины. Она командировала в Суздаль специалистов для составления описи ризницы монастыря, вы- яснения участи пропавших вещей, установления лиц, виновных в пропаже для привлечения их к судебной ответственности. Было принято решение о том, что все оставшиеся исторические и художественные ценности необходимо передать в губернский Исторический музей на хранение13 до того времени, когда будет организован музей в г. Суздале14.
В 1925 г. в 12 музеях Владимирской губернии было собрано до 40 тысяч экспонатов художественного, исторического, бытового, естественно-научного характера, имелись громаднейшие библиотеки, насчитывающие более 80 тысяч томов. Усилиями специалистов было взято на учет свыше 200 архитектурных памятников церковного и гражданского зодчества, несколько сот курганов и 46 городищ15 . Эти данные особенно впечатляют, если представить себе, в каких непростых условиях гражданской войны и послевоенного восстановления страны проводилась эта работа. Не меньшей трудностью представляется и преодоление негативного отношения ко всему тому, что ассоциировалось со «старым миром». Показательным является выступление заведующего Владимирским губернским отделом народного образования т. Дмитриева в августе 1925 г. на губернском съезде Советов, в котором он выразил отношение к делу сохранения культурных ценностей, проявлявшееся со стороны властей: «Взгляд на музейное дело совсем похабный. Товарищи ответственные партийные работники на заседании губисполкома заявляют: «Что ты носишься с музеем, когда тут мертвые живых поедают». Надо переменить взгляд ответственных руководящих работников на то, как надо смотреть на старину, теперь уже принадлежащую Советскому государству. Дать надо партийным коммунистам наказ, чтобы на это дело не смотрели спустя рукава»16 .
Похожая картина наблюдалась во многих регионах. Местные власти объявляли о том, что все древние архитектурные и монументальные памятники находятся под охраной государства в лице губернского комитета по делам музеев. Так, Смоленский отдел народного образования в 1919 г. создал комиссию для приема храмов всех вероисповеданий, а также монастырских зданий, часовен в составе представителей местного совета, госконтроля и коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Перед ней ставилась цель установить художественную и историческую ценность памятников и произвести их отбор. Правом изъятия предметов, имеющих художественно-историческое значение, наделялась при этом исключительно Всероссийская коллегия по делам музеев. В случае, если не оказывалось группы верующих, выразивших желание принять в свое ведение храм, имеющий художественно-историческое значение, комиссия передавала его местной коллегии по делам музеев17.
Музейных специалистов Смоленска беспокоило состояние Смоленской крепостной стены, памятника оборонного зодчества рубежа XVI-XVII вв., на ремонт которой до 1914 г. ежегодно отпускался кредит из государственного казначейства в размере 4 тыс. рублей. В последующие годы эта субсидия была прекращена, что вызвало быстрое разрушение стены на отдельных участках. Не меньшую опасность внушало и состояние кремлевских башен18. Местные власти в 1918 г. запретили производить разрушение или порчу памятников каким бы то ни было способом – разборкой, выемкой кирпича, свалкой мусора. Поскольку данные объявления и запреты не всегда имели действенный результат, то приходилось прибегать к административным и судебным мерам воздействия. Так, Смоленский губисполком в июле 1922 г. постановил, что лица, виновные в разрушении памятников старины, в первый раз будут наказываться штрафом, а в дальнейших случаях – привлекаться к судебной ответственности19. Можно предположить, что данное решение не всегда работало, потому что спустя год, в августе 1923 г., Смоленский губисполком вновь принимает постановление «Об ответственности за нарушение правил об охране памятников искусства и старины», в котором опять речь идет о денежных взысканиях и возмещении убытков за нарушение законодательства об охране памятников, подчеркивается, что они не могут служить предметом вывоза за границу, а характер их использования предусматривается при регистрации и не может быть отменен владельцем без разрешения музейных органов20.
Аналогичные решения были приняты в Вологде, старинном городе русского Севера, где до наших дней сохранились уникальные памятники истории и культуры. В сентябре 1918 г. здесь была организована комиссия по охране памятников искусства и старины в составе И.Е. Ермолаева, Н.Д. Черепенина, В.М. Колыгина и С.С. Перова. Ей было предоставлено право изъятия из владения частных лиц и учреждений предметов искусства и старины, имеющих музейную ценность. В 1918 г. комиссией были зарегистрированы и взяты на учет и под охрану государства все здания и помещения архиерейского дома, соборы, церкви, архивы, библиотека, ризница и древлехранилище Вологодского кремля, основанного еще во времена Ивана Грозного, а также памятники деревянного зодчества Вологды и Вологодского уезда. В охранной грамоте, выданной управлением архивным, библиотечным и музейным делом Вологодской губернии, говорилось о том, что эти памятники не подлежат никаким реквизициям и конфискациям без его ведома, а неисполнение этого правила будет рассматриваться как нарушение революционного правопорядка и повлечет за собой судебную ответственность. Без разрешения комиссии запрещалось занятие этих зданий учреждениями и организациями, их перестройка и переоборудование. Комиссия занималась также поиском для вологодских музеев подходящих зданий, комплектованием их коллекций, разработала проекты создания музеев церковной иконописи, гражданского и прикладного искусства21.
Пройдет немного лет, и в сентябре 1924 г. нарком просвещения А.В. Луначарский будет обращаться к председателю ВЦИК М.И.
Калинину по поводу действий Вологодского губисполкома, приведших к уничтожению и разрушению памятников архитектуры, находившихся на учете и под охраной Музейного отдела Наркомпроса. А.В. Луначарский был возмущен тем, что губисполком был осведомлен об обязанности сохранения этих памятников XVII в. и тем не менее произвел незаконные действия. До основания была уничтожена Афанасьевская церковь, разобрана Казанская часовня, принято решение снести церковь Николы на Сенной якобы по причине опасного ее состояния, хотя главная часть храма находилась в полной сохранности, в церкви Спаса произведены капитальные переделки, нарушившие ее архитектурный облик, и разобран верх колокольни. А.В. Луначарский был абсолютно прав в том, что подобные действия Вологодского губисполкома не только подрывали авторитет центральной власти, но и могли повлечь за собой подобные самовольные поступки в уездах Вологодской губернии. Наркомпрос в лице его руководителя обращался в этой связи в главный исполнительный орган страны с просьбой в срочном порядке остановить незаконные действия Вологодского губисполкома, привлечь к ответственности виновных в утрате архитектурных памятников и обязать местные власти губернии строго придерживаться существующих законов по охране памятников искусства и старины22.
В российской провинции далеко не всегда имелись силы и средства для проведения работ по выявлению и постановке на учет художественно-исторических ценностей. Неоценимую помощь в этом оказывали специалисты Всероссийской коллегии по делам музеев. В самый разгар гражданской войны, в ноябре 1918 г., один из них был направлен в Николо-Малицкий монастырь близ г. Твери. Поездка имела целью осмотр и вывоз в хранилище Национального Музейного фонда мозаичного образа Спаса Нерукотворного, исполненного М.В. Ломоносовым. Об авторстве свидетельствовала надпись, которая была выгравирована на обратной стороне: «Сей Нерукотворный Образ Христа Спасителя нашего по желанию сиятельнейшей графини Мавры Егорьевны Шуваловой сложен Михайлом Ломоносовым в начинании опытов мозаичного художества в Санкт-Петербурге 1753 года». Согласие на передачу образа было получено у настоятеля монастыря23. Таким образом, эта историческая реликвия пополнила коллекции Национального Музейного фонда и избежала участи пропасть или вовсе погибнуть в связи с закрытием монастыря. Музеефикация объектов культурного наследия страны в период войн и революционных потрясений означала их спасение.
Выдающиеся специалисты направлялись Музейным отделом Наркомпроса в разные уголки России. Среди них был Александр Иванович Анисимов – блестящий реставратор, проявивший себя еще в дореволюционный период тем, что принимал участие в раскрытии древних фресок и организации Древлехранилища – музея древнерусского искусства - в Новгороде. С 1918 г. он вместе с И.Э. Грабарем возглавил Комиссию по сохранению и раскрытию памятников древней живописи24. В декабре 1918 г. А.И. Анисимову как члену Комиссии, было поручено выделить в церквах и монастырях г. Мурома памятники церковного искусства, которые вышли из непосредственного употребления при отправлении церковных служб и представляют художественный интерес. Их надлежало отправить в Москву25. Летом 1919 г. специальная комиссия в составе 12 человек – И.Ю. Бондаренко, И.Э. Грабаря, Т.Г. Трапезникова, Г.О. Чирикова, Н.В. Марковникова и др. – отправилась в экспедицию по старинным русским городам Верхней Волги. Это были лучшие в стране археологи, архитекторы и реставраторы. Их целью был осмотр памятников искусства и старины в Твери, Старице, Кимрах, Угличе, Рыбинске, Калязине, Ярославле, Костроме, Кинешме, Путивле, Нижнем Новгороде и других центрах древнерусской культуры. Во время экспедиции было описано много выдающихся по своей архитектуре храмов, произведена пробная расчистка фресок и икон в Ярославле, среди которых были уникальные памятники XV-XVI вв., найдено много ценного архивного материала. Вслед за этой экспедицией состоялась поездка в Коломну, Рязань, Муром, Свияжск, Булгары, Казань, в ходе которой происходило обследование памятников древнерусской живописи с точки зрения их сохранности. Участники этой экспедиции знакомились с постановкой дела охраны культурно-исторического наследия на местах, работой в этой области вновь созданных музеев26. Таким образом, были сделаны первые, но очень необходимые шаги в деле постановки на учет памятников истории и культуры и формировании общей картины их состояния. В результате трех больших научно-художественных экспедиций по Верхней и Средней Волге, Москве-реке, Северной Двине, по Сольвычегодской области и Онежскому краю было обследовано более 10 тысяч памятников истории и культуры27.
Одновременно с активной работой по спасению художественно-исторических ценностей руководству Музейного отдела Нар-компроса и всем его местным сотрудникам приходилось преодолевать нигилистическое отношение к «барскому» и «церковному добру». В первые годы революции были случаи арестов музейных работников как защитников «имущества буржуазии», которые приходилось разрешать с помощью телеграммы из Москвы28 и принятия специальных разъяснительных документов. Так, в приложении к инструкции об охране, учете и регистрации памятников старины и искусства вне Петрограда, составленной в 1919 г., Нар-компрос отмечал, что в этом деле нередко встречаются коренные и глубокие недоразумения, которые вполне понятны в момент полного переустройства всей общественной жизни. Однако они угрожают гибелью «памятникам искусства, истории и быта, затерянным в далеких уголках нашего Отечества», и поэтому должны быть немедленно устранены. В этом документе говорилось: «Народное правительство создает учрежде- ния для охраны художественно-исторических ценностей, а рядом с этим не только из среды народных масс, но и из числа самих деятелей, призванных на культурную работу, раздаются голоса: да стоит ли вообще сохранять старое, отжившее? Иногда же слышатся еще более определенные заявления, что все старое и прошлое следует не хранить, а истреблять по одному тому, что это старое и прошлое. Обращаясь к таким заявлениям и вполне допуская, что они вызваны искренним желанием добра и пользы народной, необходимо также искренно и совершенно прямо признать их крайне опасным и вредным заблуждением»29. В инструкции подчеркивалось, что никто не вправе уничтожать культурные богатства, и высказывалось предположение, что в будущем русский народ будет с благодарностью вспоминать тех, кто сохранил для него художественное достояние его страны и явится строгим судьей тем, кто разрушил культурное достояние его предков.
Активную борьбу с влиянием «буржуазной» культуры в первые послереволюционные годы вели пролеткультовцы. В 1919 г. на страницах журнала «Пролетарская культура» можно было прочесть такие строки: «Власть старого мира в культуре еще очень и очень сильна. И ее нельзя свергнуть штыком, нельзя разрушить как бюрократический, хозяйственный или политический аппарат… Архитектура, театр, литература, музыка, изобразительные искусства, все это – ценности буржуазного мира. Они всюду оказывают свое глубокое психологическое влияние – на улице, в театре, в библиотеках, в музеях, на выставках… Искусство живет на вершинах, куда не докатываются волны классовой борьбы, - так говорят художники старого мира, так повторяют за ними наши товарищи, не усвоившие себе с надлежащей глубиной основы нашего миросозерцания»30. Подобные публикации разжигали искру ненависти к «старой» культуре. Сторонников и желающих освободиться от нее, к сожалению, было немало как среди руководителей разного уровня, так и среди обычных людей.
Повод для подобных действий дала кампания по изъятию церковных ценностей в Фонд помощи голодающим (Помгол), которая проходила в 1922 г. Музейный отдел Главнауки образовал специальную комиссию под председательством И.Э. Грабаря, специалисты которой являлись экспертами в выделении музейных ценностей из вещей, изымаемых в фонд Помгола. Ими в течение года (с октября 1921 г. по октябрь 1922 г.) было обследовано 687 пунктов сбора церковных ценностей по стране и 214 в Москве. Комиссии удалось выявить в огромном потоке предметов более 5 тысяч имеющих художественно-историческое значение. Это означало, что они были спасены от продажи или переплавки. Объем вновь выявленных памятников был столь велик, что это позволяло пополнять существующие музейные коллекции и даже создавать новые музеи, как, например, в Архангельске. Одновременно с этим комиссия И.Э. Грабаря отметила нарушения в охране памятников искусства и старины, в частности, в Соловецком монастыре, в Холмогорах и др., констатировала почти полную приостановку налаженного ранее дела охраны в ряде мест из-за отсутствия финансирования и недостаточного количества специалистов 31. Случались и настоящие эксцессы, как, например, в Петрограде, где по распоряжению местной комиссии серебряный иконостас Казанского собора вопреки указаниям Музейного отдела Наркомпроса был превращен в лом32.
Кампания по изъятию церковных ценностей сопровождалась масштабной агитацией и антирелигиозной пропагандой. Главное печатное издание правящей партии, газета «Правда», летом 1923 г. от имени рабочего Замоскворецкого района Москвы Павла Скородумова опубликовала статью под названием «Сменяют колокола на аэропланы». В ней автор рассуждал о том, что дворяне и купцы любили малиновые перезвоны, ради которых загубили тысячи рабочих, что «на костях трудящихся построены богатства и колокола церкви». От лица рабо- чих Замоскворецкого района он обращался к центральной власти с предложением снять и продать церковные колокола по всему СССР и на вырученные деньги построить мощный воздушный флот и сельскохозяйственные машины. Павел Скородумов утверждал, что рабочие и крестьяне по своей доброй воле снимали колокола с церквей и на вырученные деньги закупали машины для фабрик и сельского хозяйства33.
Иногда дело доходило до абсурда, когда власти принимали решение об изъятии ценностей из музейных коллекций. Так, в феврале 1922 г. агитационно-пропагандистский отдел Псковского губкома РКП(б) постановил произвести изъятие из губернского музея принятых на охрану, но не имеющих художественного и исторического значения предметов с тем, чтобы реализовать их в фонд помощи голодающим34. Очевидно, что музейные собрания формируются из уникальных памятников, которые представляют научный и художественный интерес, иных там быть просто не может. Решение Псковского губкома РКП(б) создавало прецедент, позволяющий нарушать неприкосновенность и целостность музейных коллекций, прямо противоречило существующим законам об охране памятников искусства и старины, которые никто не отменял.
Руководство Наркомпроса занимало взвешенную позицию и от лица А.В. Луначарского пыталось «остудить горячие головы» тех, кто в пылу антирелигиозной борьбы и пользуясь моментом готов был полностью уничтожить культуру, веками связанную с Русской Православной церковью. В выступлениях на страницах журналов и газет он убеждал своих оппонентов в том, что церковные ценности часто гораздо более ценны по своему художественному достоинству, чем по своему весу на металл. Наркомпрос добивался того, чтобы присутствие музееведов было обязательным при изъятии церковных ценностей. «Есть такие художественные ценности и древности, которые государство не может уступить ни за какие деньги. Они же представляют собой уникумы, вещи, которые гораздо правильнее удержать за создавшим их народом, как памятники его художественного творчества, хотя бы и в области религиозного искусства», - писал А.В. Луначарский34.
В 1920-е гг. многие культовые здания перестали выполнять свое непосредственное предназначение, их все чаще приспосабливали под различные другие цели и нужды. Например, в 1923 г. Ярославский Главполитпросвет при содействии большевистских партийных организаций решил использовать две церкви города под музеи и семь церковных зданий под политикопросветительные учреждения35. И это был не худший вариант использования, ведь зачастую их помещения превращались в склады, овощехранилища и т.п. При любом варианте использования церквей как гражданских объектов, за исключением музеев, они утрачивали свое прежнее внутреннее убранство, среди которого могли быть и ценные фресковые росписи, старинные иконы, книги и другие предметы богослужебного культа.
Примерно до середины 1920-х гг. дело не доходило до массового сноса церковных зданий. Однако постепенно эта тенденция стала нарастать по всей стране, о чем свидетельствуют архивные данные. Так, в апреле 1925 г. на заседании одного из районных комитетов большевиков в Ярославле обсуждался вопрос о сносе часовни, расположенной напротив клуба «III Интернационал». Было постановлено считать присутствие часовни напротив рабочего клуба неуместным и предложено ее снести36. Политическая и идеологическая мотивированность такого решения очевидна. Вполне вероятно, что часовня, о которой идет речь, не относилась к памятникам общероссийского или местного значения. Однако такие здания создавали неповторимый облик многих городов страны, и их утрата означала потерю этой уникальности.
8 сентября 1923 г. Совет народных комиссаров принял постановление, согласно которому запрещалось выделять государственные средства на ремонт зданий религиозного значения. А.В. Луначарский и Н.И. Троцкая в этой связи писали в ЦК РКП(б) о необходимости пересмотреть это решение, поскольку оно обрекает на разрушение многочисленные архитектурные памятники исключительного значения37. Однако это обращение руководителя Наркомпроса и его музейного подотдела не имело результата.
Отдел по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса на этой поднимающейся все выше волне нигилизма в январе 1924 г. поддержал решение Совета труда и обороны о том, что 60% всех средств, полученных от реализации ценностей не музейного значения, будут направляться на ремонт и содержание музеев и исторических памятников. Остальные 40% вырученных средств должны были поступать в государственную казну38. Здесь речь шла уже о том, что продаже подлежали не только реликвии, изъятые у церкви, но и другие художественно-исторические ценности, хотя в документе они обозначены как не имеющие музейного значения. Конечно, не все старинные предметы быта, культа и искусства составляют первый ряд художественной культуры, достойны быть представленными в музейных экспозициях. Однако и второй, и даже третий ряд культуры представляют интерес с точки зрения того, что они являются тем фундаментом, на котором и появляются неповторимые шедевры. Стремление пополнить государственную казну за счет продажи предметов культуры и быта прошлых эпох стало одной из тенденций культурного процесса второй половины 1920-х гг. При отсутствии достаточного количества специалистов, возможной субъективности в оценках значимости и уникальности художественных и исторических предметов или «давлении сверху» можно было признать ценностями, не имеющими музейного значения, сколь угодно много различных памятников. Так стал набирать силу процесс утраты культурного наследия.
Руководитель Музейного отдела Нар-компроса Н.И. Троцкая писала: «Чем выше культурный уровень страны, тем бережнее она относится к своим культурно-историческим памятникам, тем внимательнее их изучает и тем больше принимает всякого рода предупредительных мер к их охра-не»39. С этим утверждением можно полностью согласиться. Сегодня разрабатывается долгосрочная масштабная программа по сохранению объектов культурного наследия России с тем, чтобы «они служили людям и украшали наши города и села»40. Конечно, в настоящее время возможностей для реализации такой задачи гораздо больше, чем в 1917-1927 гг. Культурные процессы в этот период носили сложный и противоречивый характер. Однако первое послереволюционное десятилетие было начальным этапом, когда сохранение памятников истории и культуры стало осуществляться на государственном уровне. Важнейшим достижением этого этапа можно считать сохранение крупнейших музейных коллекций не только в столицах, но и в провинции. Выдающиеся профессионалы в области искусства, архитектуры и реставрации с большим воодушевлением и энтузиазмом включились в процесс поиска, постановки на учет и музеефикации художественно-исторических ценностей. Решение этих новых задач они рассматривали как свой долг перед обществом. Характерной чертой культурных процессов до середины 1920-х гг. было то, что властные структуры прислушивались к компетентному мнению специалистов и учитывали его.
По мнению Н.И. Троцкой, о вандализме революции в годы гражданской войны писала «белая печать» с целью дискредитации большевиков: «дворцы сожжены, памятники ниспровергнуты, солдаты укрываются гобеленами и из картин Рембрандта делают себе портянки». Сама же работа музейных органов по сохранению культурных богатств встречала понимание и содействие местных властей и большинства населения, которые считали, что это теперь «наше, народное», а значит, должно быть сохранено41.
Архивные материалы свидетельствуют о том, что были случаи, когда органы советской власти шли на нарушение законодательства об охране памятников истории и культуры, исходя из идеологических или политических соображений, и часто требовалось вмешательство центральных инстанций для того, чтобы предотвратить еще более негативные последствия таких разрушительных действий. Очень многое в подобных ситуациях зависело и от того, насколько активны и авторитетны были местные общественные силы, противостоявшие бескультурным нигилистам во власти. От их усилий напрямую зависела судьба культурного наследия государства. Подвижникам культуры первых послереволюционных лет удалось остановить волну разрушений и расхищений, которая накрывала опустевшие помещичьи усадьбы и монастыри.
Исторический опыт показал, что в условиях сильных социальных потрясений и общественных перемен сохранить художественно-исторические памятники можно было, только превратив их в музейные объекты. Только так удалось спасти от гибели многие дворянские усадьбы, здания монастырей и церквей, многочисленные предметы искусства и старины, которые и сегодня являются «золотым фондом» российской культуры.
Анализ исторических источников позволяет сделать вывод, что в 1917-1927 гг. сфера культуры постоянно испытывала идеологическое давление в ходе различных кампаний (борьба с Пролеткультом, антирелигиозные кампании, изъятие церковных ценностей). Это не могло не отразиться на проведении политики сохранения культурного наследия, особенно в той его части, которая касалась памятников, связанных с Русской Православной Церковью. На протяжении столетий она являлась местом, где формировались национальные культурные и духовные ценности. Пренебрежение этим фактом имело негативные последствия для общества. Если до середины 1920-х гг. мы видим ситуацию неустойчивого равновесия в противостоянии двух тенденций – сохранения культурного наследия во всех его формах и пренебрежительного отношения к нему как связанному со «старым миром», то к концу 1920-х гг. усиливается негативный нарратив в отношении церковных ценностей. Они начинают «выводиться за скобки» того культурного наследия, которое нужно сохранять. Таким образом, в этот период в политике охраны национальных культурных ценностей наметился трагический разлом, означавший отход от провозглашенного в 1918 г. Народным Комиссариатом Просвещения курса на спасение памятников искусства и старины независимо от их происхождения. Следствием такого поворота станет утрата значительной части церковных художественно-исторических ценностей и сужение «культурного поля» страны.