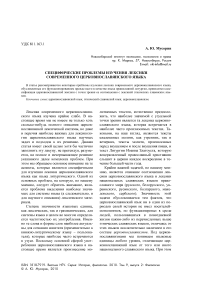Специфические проблемы изучения лексики современного церковнославянского языка
Автор: Мусорин Алексей Юрьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые проблемы изучения лексики современного церковнославянского языка, обусловленные его функционированием прежде всего в качестве языка православной литургии, приводится классификация церковнославянской лексики с точки зрения ее соотношения с лексикой этнических славянских языков.
Церковнославянский язык, этнический славянский язык, церковнославянизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14737217
IDR: 14737217 | УДК: 811.163.1
Текст научной статьи Специфические проблемы изучения лексики современного церковнославянского языка
Лексика современного церковнославянского языка изучена крайне слабо. В настоящее время мы не имеем не только хоть сколько-нибудь полного описания церковнославянской лексической системы, но даже и перечня наиболее важных для лексикологии церковнославянского языка научных задач и подходов к их решению. Данная статья имеет своей целью хотя бы частично заполнить эту лакуну, не претендуя, разумеется, на полное и исчерпывающее решение указанного далее комплекса проблем. При этом мы обращаем основное внимание на те аспекты, которые являются специфичными для изучения лексики церковнославянского языка как языка литургического. Одной из основных проблем, на которую, по нашему мнению, следует обратить внимание, является проблема выделения наиболее значимых для системы языка (а следовательно, и для научного описания) лексического материала.
Степень значимости языковых единиц, как лексических, так и грамматических, для системы языка в целом во многом определяется частотностью их употребления. Именно те слова и формы слов наиболее актуальны для сознания носителя (применительно к книжно-литургическому языку - пользователя), которые наиболее часто встречаются в узусе. Поскольку основной сферой употребления церковнославянского языка в настоящее время является произнесение мо- литвенных текстов, естественно предположить, что наиболее значимой с узуальной точки зрения является та лексика церковнославянского языка, которая встречается в наиболее часто произносимых текстах. Таковыми, на наш взгляд, являются тексты ежедневных молитв, как утренних, так и вечерних, тексты молитв, произносимых перед вкушением и после вкушения пищи, и текст Литургии Иоанна Златоуста, которую воцерковленный православный христианин слышит в церкви каждое воскресение в течение большей части года.
Крайне важной задачей, по нашему мнению, является описание соотношения лексики церковнославянского языка и лексики национальных славянских языков православного мира (русского, белорусского, украинского, русинского, болгарского, македонского, сербского). Значимость этой задачи обусловливается тем фактом, что церковнославянский язык ни в один из периодов своей истории не имел носителей-монолингвов, но функционировал в среде людей, пользовавшихся в повседневной жизни каким-либо из перечисленных выше этнических славянских языков, отличаясь от этих языков исключительно наличием в его составе церковнославянизмов . Под церковнославянизмами мы понимаем языковые единицы любого уровня, отличающие церковнославянский язык от того или иного национального славянского языка. При этом
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 2: Филология
языковая единица, выступающая в качестве церковнославянизма по отношению к одному из славянских языков, может не являться таковой по отношению к другому языку. Так, неполногласное гра1дъ выступает как церковнославянизм по отношению к русскому, украинскому, белорусскому и русинскому языкам, но не является таковым по отношению к болгарскому, македонскому и сербскому. Исходя из вышесказанного, в рамках решения данной задачи мы выделяем следующие группы слов церковнославянского языка.
-
1. Слова, отсутствующие в настоящее время во всех национальных славянских языках, но имеющиеся в церковнославянском. Такие слова мы называем абсолютными церковнославянизмами . Они немногочисленны. Например, па1рдалъ ‘рысь’, пmргъ ‘башня’, конегони1тель ‘кучер, извозчик’. В эту группу входят преимущественно либо книжные заимствования из греко-византийского, либо кальки, либо искусственные многокорневые слова, созданные по греческим словообразовательным моделям. Однако среди абсолютных церковнославянизмов встречаются и слова исконно славянские по происхождению, например, существительное укрухъ ‘ломоть, кусок’ (исторически родственно словам кроха, крошить ) [Полный старославянский словарь, 1990. С. 734].
-
2. Слова, общие для церковнославянского и какого-либо одного из живых славянских языков. Например, личное местоимение первого лица единственного числа а4зъ , которое объединяет церковнославянский язык с современным болгарским ( аз ), одновременно противопоставляя его всем остальным славянским национальным языкам православного мира, или неполногласное пла1мz , общее для церковнославянского и русского ( пламя ), но отсутствующее во всех остальных языках мира Slavia Orthodoxa. Восточнославянские языки (кроме русского) дают полногласный вариант (белорус. полымя , укр. полом’я , русинск. поломінь ), а южнославянские представляют этот неполногласный корень в другом морфологическом оформлении (болг. пламък , маке-донск. пламен , сербск. пламен ).
-
3. Слова общие для церковнославянского и нескольких (но не всех!) славянских язы-
- ков православного мира. В качестве примера можно привести неполногласное кра1ва ‘корова’, объединяющее церковнославянский язык с болгарским, македонским и сербским и противопоставляющее его русскому, белорусскому, украинскому и русинскому; неполногласное вре1мz, общее для церковнославянского, болгарского, македонского, сербского и русского, но чуждого украинскому, белорусскому и русинскому, в которых соответствующее понятие передается при помощи лексемы час.
-
4. Слова, общие для церковнославянского языка и всех славянских языков православного мира. Такие слова не являются церковнославянизмами, поскольку не облают способностью противопоставлять церковнославянский язык этническим славянским языкам, например, до1мъ, бо1гъ, кни1га, вода2 и мн. др.
Следует отметить, что различные национальные языки мира Slavia Orthodoxa имеют различное количество общей с церковнославянским языком лексики. Так, даже не прибегая к статистическим данным, можно с уверенностью сказать, что количество слов, общих для церковнославянского и русского языков, значительно превосходит количество слов, общих для церковнославянского и белорусского или для церковнославянского и украинского. Это связано с тем, что русский язык – единственный из вышеперечисленных трех восточнославянских активно использовал церковнославянский язык для пополнения собственного лексического фонда, в то время как белорусский и украинский отторгали слова церковнославянского происхождения [Ян-коўскi, 1989. С. 75–76, 83].
Церковнославянизмы могут и должны быть классифицированы не только с точки зрения того, каким этническим славянским языкам они противопоставляют церковнославянский язык, но и с точки зрения того, на каком уровне языковой системы осуществляется такое противопоставление. Подобные классификации приводились и ранее, в частности в работах Е. Г. Итэсь [1983. С. 80] и О. Г. Щегловой [2003. С. 72–73], однако эти исследователи рассматривают церковнославянизмы исключительно в их противопоставлении словам русского языка, в то время как мы считаем необходимым рассмотреть в противопоставлении лексике каждого из славянских языков православного мира. Выделяются следующие группы.
-
1. Лексические церковнославянизмы.
-
2. Словообразовательные церковнославянизмы. Они обладают общей со своими
смысловыми эквивалентами в национальных славянских языках корневой морфемой, но отличаются входящими в их состав словообразовательными аффиксами. В качестве примера здесь можно привести глагол изо-блача1тисz ‘раздеваться’ [Дьяченко, 1993. С. 216]. Корень этого слова присутствует и в других славянских языках (русск. разоблачать, облачение , болг. събличам ‘раздевать’, сербск. облачити ‘одевать’), но глагола именно с таким значением и именно в таком словообразовательном оформлении ни в одном языке, кроме церковнославянского, нет.
-
3. Лексико-фонетические церковнославянизмы. В этой группе абсолютных церковнославянизмов нет. Слова этой группы могут выступать в качестве церковнославянизмов по отношению к словам одних сла-
- вянских языков православного мира, не являясь таковыми по отношению к словам других. Например, по отношению к лексике русского языка церковнославянизмами являются неполногласные гра1дъ, бре1гъ, хла1дъ, кра1ва, вра1нъ и мн. др.
-
4. Семантические церковнославянизмы. В эту группу входят слова, представленные в плане выражения и в национальных славянских языках, однако имеющие в церковнославянском иное значение. Например, церковнославянское существительное село ‘поле, пашня’. Ни в одном из национальных славянских языков село2 в таком значении не представлено.
Они отличаются от своих смысловых экви- валентов в национальных славянских языках корневой морфемой. Примером таких слов может служить абсолютный церковнославянизм а4ще: в русском языке ему соответствует если, белорусском – калі, украинском – якщо, русинском – коли, болгарском – ако, македонском – ако, сербском – ако.
В данной группе церковнославянизмов выделяются две подгруппы. В первую под- группу входят церковнославянизмы, находящиеся в регулярных отношениях с соответствующими им словами национальных славянских языков. Так, в рамках оппозиции «церковнославянский – русский» мы можем утверждать, что церковнославянскому trat регулярно соответствует русское torot, написанию ЖД на месте этимологического *tj написание Ж, и т. д. Во вторую подгруппу входят церковнославянизмы, находящиеся в нерегулярных, неповторяющихся отношениях со своими эквивалентами в национальных славянских языках. Как правило, такие пары слов различаются одним или двумя звуками (на письме – буквами), и различие их внешних оболочек не препятствует узнаванию и правильному пониманию слова но- сителями того или иного национального славянского языка. Примером такого церковнославянизма в рамках оппозиции «церковнославянский – русский» может служить лексема посредэ2, отличающаяся от полностью тождественного ему по значению русского посреди только одной фонемой, и понимание которого не требует от русского человека, даже никогда не изучавшего церковнославянский язык, обращения к словарям.
Следует отметить, что семантические церковнославянизмы принципиально отличаются от церковнославянизмов других групп. Если церковнославянизмы трех первых групп противопоставлены лексике национальных славянских языков православного мира планом выражения, то церковнославянизмы четвертой группы – планом содержания.
Один и тот же церковнославянизм может быть противопоставлен своим эквивалентам в живых славянских языках на различных уровнях. Например, зооним вра1нъ по отношению к русскому ворон является лексикофонетическим церковнославянизмом, а по отношению к болгарскому гарван ‘ворон’ – лексическим.
При изучении церковнославянизмов необходимо также принимать во внимание частотность употребления каждого из них. Это дает нам возможность понять, слова каких частей речи, каких лексико-тематических групп, какие, наконец, конкретные лексические единицы наиболее активно участвуют в формировании оппозиции «церковнославянский язык – этнический славянский язык».
Рассматривая лексику церковнославянского языка, необходимо вести речь не только о церковнославянизмах, но и о словах, общих для церковнославянского и какого-либо национального славянского языка. Мы считаем, что следует обратить внимание в первую очередь на стилистический аспект. Общеизвестно, что в самом церковнославянском языке стилистических различий между словами не существует, однако любой человек, пользующийся церковнославянским, так или иначе воспринимает его через призму своего родного языка, в котором стилистические характеристики слов, конечно же, имеются. Так, для носителя русского языка слово хлэ1бъ, несомненно, принадлежит к нейтральному стилистическому пласту, а слово влады1ка – к высокому.
Изучение лексики церковнославянского языка должно проводиться не только в синхронном, но и диахронном аспекте. Заметим, что применительно к церковнославянской лексике само понятие диахронии имеет несколько иное содержание, чем к лексике любого этнического языка. В этническом языке повседневной коммуникации под устаревшим понимается любое слово, не используемое при порождении новых текстов, либо используемое крайне ограничено, при решении какой-либо особой стилистической задачи (например, при написании исторического романа). С совершенно иной ситуацией мы сталкиваемся в церковнославянском языке. В нем любая лексема, однажды употребленная в функционально значимом для церкви тексте, остается в языке до тех пор, пока функционально значимым остается для церкви сам текст. Таким образом, перейти в состав устаревших церковнославянское слово или его значение может только в том случае, если для церкви перестали быть функционально значимыми все тексты (или их варианты редакции и т. д.) в которых оно было употреблено. В качестве примера церковнославянского архаизма мы можем привести теоним истыи [Полный старославянский словарь, 1990. С. 248], встречающийся в Супрасльской рукописи и, следовательно, актуальный для церковнославянского языка старославянского периода, но не представленный в текстах ныне употребляемой литургической литературы.
Изучение лексики современного церковнославянского языка предполагает также рассмотрение ее в таких традиционных лексикологических аспектах, как синонимия, антонимия, омонимия и полисемия, описание различных тематических групп, уточнение значение и особенностей употребления отдельных слов и устойчивых словосочетаний, однако эта проблематика не является специфической для церковнославянского языка и по этой причине в данной статье не рассматривается.
SPECIFIC PROBLEMS IN LEARNING LEXICS OF MODERN CHURCH SLAVONIC LANGUAGE