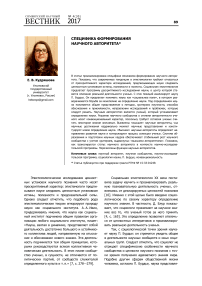Специфика формирования научного авторитета
Автор: Кудряшова Е.В.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 4 (30), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирована специфика механизма формирования научного авторитета. Показано, что современные тенденции в эпистемологии требуют отказаться от прескриптивного характера исследований, предписывающих науке следовать ценностным установкам истины, полезности и полноты. Социальная эпистемология предлагает программу дескриптивного исследования науки, в центр которой ставится описание реальной деятельности ученых. С этих позиций анализирует науку П. Бурдье. Он предлагает понимать науку как «социальное поле», в котором разворачивается борьба за монополию на определение науки. Под определением науки понимается общее представление о методах, критериях научности, способах обоснования и приемлемости, направлении исследований и проблемах, которые следует решать. Научным авторитетом является ученый, который устанавливает определение науки. Решение научного сообщества о степени авторитетности ученого носит конвенциональный характер, поскольку требует согласия ученых считать некоторое знание значимым...
Научный авторитет, научное сообщество, научно-исследовательская программа, социология науки, п. бурдье, конвенциональность
Короткий адрес: https://sciup.org/14114267
IDR: 14114267
Текст научной статьи Специфика формирования научного авторитета
Эпистемологические исследования ценностных установок научного познания часто носят прескриптивный характер: эпистемологи предписывают науке следовать ценностным установкам истины, полезности и предсказательной силы. Однако следует отметить, что подобного рода эпистемологические теории игнорируют природу науки как социального института. А. А. Ивин, придерживаясь мнения, что наука как социальный институт подчинена общим правилам организации любого социального института, пишет: «Наука, взятая в динамике, представляет собой деятельность достаточно большого и устойчивого коллектива людей, направленную на отыскание и обоснование нового знания. Эта деятельность подчиняется тем общим принципам, которыми руководствуется всякая коллективная человеческая деятельность. В этом плане сообщество ученых, в сущности, не отличается от политических партий, от сообществ служителей определенного культа и т. п.» [7, с. 278—279].
Социальная эпистемология XX века поставила задачу изучить и проанализировать реальную познавательную деятельность ученых, отвлекаясь от декларируемых ценностей познания [10]. Именно с этой целью было введено социологическое по своему характеру определение научного знания. В частности, Д. Блур показывает, что социологи принимают за научное знание все то, что ученый готов за него принять [4, с. 165]. Это определение позволяет отвлечься от ценностных императивов и проанализировать реальную деятельность ученых.
Так, с социологической точки зрения изучает науку П. Бурдье: он стремится увидеть общее в деятельности научных сообществ и иных социальных групп. Следует отметить, что социолог не отрицает специфические особенности научного сообщества и ценности научного познания с точки зрения получения адекватного знания мира. Подобно другим сферам общественной жизни человека, согласно П. Бурдье, наука представля- ет собой «социальное поле»1, в котором имеет значение соотношение сил и монополий, разворачивается конкурентная борьба, вырабатываются стратегии, действуют интересы и прибыли. Отличие науки от других «социальных полей» лежит лишь в разнице форм выражения. Наука как социальный институт являет собой систему объективных социальных отношений между учеными, имеющими различный статус.
Согласно концепции П. Бурдье, в науке действуют многие научные сообщества, ведущие между собой конкурентную борьбу за право сформулировать определение науки. Под определением науки в данном случае понимается общее представление о методах, критериях научности, способах обоснования и приемлемости, направлении исследований и проблемах, которые следует решать.
Научные сообщества в этой борьбе стремятся к монополии на право говорить от лица науки. Поэтому научный авторитет в концепции П. Бурдье — это не только «техническая способность» создавать новое знание, но и одновременно «социальная власть», которая выражается в «монополии на научную компетенцию» [5]. Научный авторитет не только получает значимый для многих научный результат, но и вводит методы познания, критерии обоснования и в конечном счете решает, в каком направлении будет развиваться наука, какие проблемы являются для нее значимыми, какие методы необходимо использовать для их решения, как отличить научное знание от лженаучного или ненаучного. Таким образом, научный авторитет транслирует определенное видение науки.
Исходя из теоретических положений П. Бурдье, научным авторитетом становится тот ученый (или коллектив ученых), который конституировал свое определение науки, сделал его более значимым, чем остальные. По сути, авторитет создает не только новые познавательные результаты, но и критерии, которые позволяют отделить значимое от незначительного, выдающееся от посредственного.
Подобная радикальная трактовка, в которой «логика» роста научного знания уступает место конкуренции научных сообществ за монополию на определение науки, исторически обоснована. Научное сообщество не может предложить однозначного, навсегда данного определения науки и научного метода. В исторической перспективе содержание научного знания менялось. На современном этапе становления наука находится «в движении»: корпус научного знания, как и связанная с ним научная картина мира, также меняется [1, с. 124]. Кроме того, в науке, особенно на ее переднем крае, постоянно разворачиваются конфликты, которые все больше «дробят» сообщества ученых [3, с. 23]. В этой связи следует обратить внимание и на то, что не существует единых, однозначно действующих для всех наук и всех сообществ ученых критериев научности. В качестве таких критериев может выступать согласованность с существующими представлениями, эффективность в решении прикладных и технических проблем, идеологическая или политическая обоснованность. И даже традиционный критерий истинности знания при более пристальном анализе оказывается многозначным. Существует несколько альтернативных концепций истины, каждая из которых транслирует определенное видение того, какое знание ученые называют истинным.
Если принять тезис П. Бурдье, что не только «логика» научного познания стимулирует развитие науки, но и взаимоинтенции научных акторов, то главная загадка появления научных авторитетов сводится к вопросу, как деятельность одних ученых становится более значимой, чем деятельность других. Следует помнить, что наука автономна в том смысле, что статус авторитета могут дать только ученые.
Наука имеет конвенциональный характер: та или иная операция в области научно-исследовательской деятельности, или в оценке результата познания, или в области социальной интеракции требует процедуры согласия относительно норм производства этой операции [8, с. 93]. Определение научного авторитета и его трансляция в качестве значимого осуществляется конвенциональным образом. Иными словами, значимым может стать кто-то или что-то только при условии согласия многих членов научного сообщества считать кого-то или что-то таковым.
В этом отношении следует разделить два случая появления научных авторитетов. В социальной философии принято различать естественные и формальные авторитеты так, что первые функционируют посредством воздействия неформальных причин, вторые возникают посредством функционирования установленной системы норм и узаконенной правовой системы [6, с. 65].
Это различие эффективно использовать в социально-эпистемологических исследованиях при разграничении случаев появления научных авторитетов, кардинально меняющих научные представления, и научных авторитетов, работающих в рамках научно-исследовательских программ. В первом случае речь идет о «высших» авторитетах, научно-исследовательская деятельность которых конституирует определение науки, формирует научное сообщество и существенно меняет научные представления. Во втором случае научный авторитет транслирует научно-исследовательскую программу и обеспечивает рост научного знания в ее пределах.
В случае формирования «высших» научных авторитетов происходят серьезные перемены мировоззренческого плана, которые переориентируют сообщество на согласованный отказ от прежних авторитетов и принятие новых. Так, в частности, произошло в отечественном естествознании СССР 30-х годов, когда административный авторитет поддержал «новую физику», обнаружив высокую эффективность их исследований в деле обороны [2]. Когда в мировоззрении появилась установка на то, что физика должна быть не только диалектико и материалистически «правильной», но и эффективной в решении оборонных задач, была принята та научно-исследовательская программа, которая была способна удовлетворить эти требования, — группа «академических» физиков получила монополию на определение науки. Если бы эффективность данной научно-исследовательской программы не была продемонстрирована, вполне вероятно, с «новой физикой» случилось бы приблизительно то же, что с генетикой.
Было бы неверным думать, что этот случай уникален. По всей видимости, эффективность в решении прикладных задач стала значимой не только в СССР. Речь идет о перемене в общественном сознании места и роли науки в обществе. Если ранее наука воспринималась как дело немногих, готовых посвятить жизнь «поиску истины», то в начале XX века общество стало требовать от науки результатов, которые можно использовать в обороне, в индустриальной, фармацевтической и иной промышленности. Серьезная мировоззренческая переориентация, произошедшая в обществе, создала иные критерии оценки науки и тем самым стимулировала научное сообщество выбирать иные научные авторитеты, отвечающие запросам нового мировоззрения.
На современном этапе развития науки можно обнаружить те же процессы. Если в отношении естественных наук доминирующая научноисследовательская программа более или менее определена, а научное сообщество добилось некоторого нейтралитета, то гуманитарные науки находятся в состоянии постоянного эпистеми-ческого конфликта в ходе борьбы за приоритет. Идеологическая и политическая борьба между группами в обществе актуализируется в гуманитарных науках в форме конфликтов научно-исследовательских программ, предлагающих альтернативные способы изучения общества и человека. «Иначе и быть не может, поскольку цель внутренней борьбы за научный авторитет в поле социальных наук, т. е. за право производить, навязывать и внушать легитимное видение социального мира, является одной из целей борьбы между классами в политическом поле», — замечает по этому поводу П. Бурдье.
«Высшие» научные авторитеты и их определение науки конституируют определенный порядок научно-исследовательской деятельности. Получая власть, они определяют направление развития науки, стимулируя тех, кто следует этому пути, и максимально препятствуя движению тех, кто следует альтернативному пути. На решение этой задачи работает система образования и подготовки научных кадров, которая готовит специалистов, могущих развивать признанные авторитетными научно-исследовательские программы. В образовании осуществляется селекция тех, кто имеет «право» быть ученым, поскольку следует установленным методам, целям и ценностям, и тех, кто этого «права» не получает.
Научное сообщество стремится символическим образом обозначить власть одних над другими. С этой целью вводится специальный аппарат эмблем и знаков, своего рода «статусных символов», определяющих качество ученых и их роль в решении проблем научно-исследовательской программы. М. Соколов пишет: «Стандартное академическое CV является каталогом таких символов. Степень и учреждение, ее присудившее, профессиональные позиции, которые индивид занимал и занимает, публикации в определенных журналах и издательствах, членство в ассоциациях и посты в их правлениях и редколлегиях журналов, исследовательские гранты, которые он получал (иногда — вместе с размером в долларах), конференции и семинары, в которых он участвовал, — все это позволяет понять, как его оценивали те, кто имел возможность наблюдать его вблизи» [9, с. 14]. Академическая карьера в этой перспективе представляется как история накопления подобных символов.
В контексте принятой научно-исследовательской программы научное сообщество конвенциональным образом определяет ее авторитетных членов. Присуждение «статусных символов» всегда представляет собой процедуру, в которой совокупность ученых признает заслуги своего члена, отвечающие конвенционально принятым стандартам. Таким образом, научное сообщество выполняет по меньшей мере две задачи: 1) обеспечивает трансляцию определения науки и 2) отделяет «свое» от «чужого», иными словами, решает проблему демаркации научно-исследовательской программы, понимаемой как наука в целом, от иной научноисследовательской программы, только претендующей на «право» называться наукой.
Научный авторитет становится своего рода «капиталом», который при правильных «инвестициях» растет. Конкуренция между учеными в научном сообществе становится борьбой за статусные символы, в которых будет выражаться «больший вес», «авторитет» ученого. По этому поводу П. Бурдье пишет: «Нет такого научного «выбора», будь то выбор области исследований, применяемых методов, печатного органа для публикации… который не был бы… политической стратегией вложения, направленной… на извлечение максимальной чисто научной прибыли, т. е. признания, полученного со стороны коллег-конкурентов» [5]. Признание, статус научного авторитета — это та прибыль, которую стремится извлечь — в том числе или в первую очередь — ученый из своей работы.
Научный авторитет такого рода формируется конвенциональной уверенностью научного сообщества в легитимности научно-исследовательской программы. Деятельность такого научного авторитета обеспечивает доминирование научно-исследовательской программы и автономию научного сообщества от попыток навязать обществу иное определение науки.
Вместе с тем формализация статуса научного авторитета приводит к серьезным проблемам. Имеет место имитация научно-исследовательской деятельности, когда подлинное познание, обеспечивающее рост научного знания (даже в русле научно-исследовательской программы), подменяется накоплением «статусных символов». Именно в силу этих причин появляются новые «статусные символы», новые способы определения вложений ученого в науку. На смену академическому статусу пришли индексы цитирования, критерии международного признания, рейтинговые показатели университетов и прочее.
Анализ механизма формирования научных авторитетов разного уровня позволяет сделать вывод об их функциях. А. А. Ивин указывает следующие функции:
«— сохранение канона знания и правил научной деятельности;
-
— «узаконение» изменений в структуре теории и в научной методологии;
-
— «легализация» возникновения новых научных дисциплин;
-
— введение в свой круг новых авторитетов путем признания их высокой научной квалификации и особых личностных качеств;
-
— определение «проблемной ситуации» в своей области знания, основного содержания ведущихся в ней дискуссий;
-
— установление связи между традицией и инновацией в сферах исследования и обучения;
-
— формирование профессиональной этики ученых, стиля жизни и аксиологической ориентации своего сообщества и научного сообщества в целом» [7, с. 278].
По сути, научные авторитеты организуют научно-исследовательскую деятельность и определяют направление дальнейшего роста знания. В этой перспективе они не просто формируют жизнедеятельность научного сообщества и обеспечивают трансляцию научного знания и методов его получения, их деятельность является фактором роста научного знания в целом.
Список литературы Специфика формирования научного авторитета
- Агасси Дж. Наука в движении//Структура и развитие науки: из Бостонских исследований по философии науки/Дж. Агасси. -М., 1978. -С. 121-160.
- Андреев А. В. Физики не шутят. Страницы социальной истории Научно-исследовательского института при МГУ (1922-1954)/А. В. Андреев. -М.: Прогресс-Традиция, 2000. -320 с.
- Баранец Н. Г. Конфликты и критика в науке/Н. Г. Баранец, А. Б. Веревкин//Конфликты в науке и философии/под ред. Н. Г. Баранец, Е. В. Кудряшовой. -Ульяновск: Издатель Качалин А. В., 2013. -С. 21-33.
- Блур Д. Сильная программа в социологии знания/Д. Блур//Логос. -2002. -№ 5-6. -С. 162-185.
- Бурдье П. Поле науки/П. Бурдье. -URL: http://bourdieu.name/content/burde-pole-nauki (дата обращения: 08.08.2017).
- Ефремов И. И. Проблема авторитета в социальной философии/И. И. Ефремов//Философия и общество. -2004. -№ 4. -С. 60-70.
- Ивин А. А. Современная философия науки/А. А. Ивин. -М.: Высш. шк., 2005. -592 с.
- Кудряшова Е. В. Методологические конвенции в физике в условиях революционного преобразования физического знания/Е. В. Кудряшова//Симбирский науч. вестн. -2017. -№ 2. -С. 92-97.
- Соколов М. Проблема консолидации академического авторитета в постсоветской науке: случай социологии/М. Соколов//Антропологический форум. -2008. -№ 9. -С. 8-31.
- Goldman A. Why social epistemology is real epistemology? -URL: http://fas-philosophy.rutgers.edu/goldman/Why%20Social%20Epistemology%20is%20Real%20Epistemology.pdf (дата обращения: 21.08.2017).