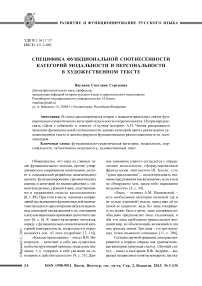Специфика функциональной соотнесенности категорий модальности и персональности в художественном тексте
Автор: Ваулина Светлана Сергеевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 3 (19), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о межкатегориальных связях функционально-семантических категорий модальности и персональности. На примере рассказа «Дама с собачкой» и повести «Скучная история» А.П. Чехова раскрывается механизм функциональной соотнесенности данных категорий при их реализации в художественном тексте и демонстрируется функциональная рядоположенность их экспликаторов.
Функционально-семантическая категория, модальность, персональность, субъективная модальность, художественный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/14969735
IDR: 14969735 | УДК: 811.161.137
Текст научной статьи Специфика функциональной соотнесенности категорий модальности и персональности в художественном тексте
Общеизвестно, что одна из главных задач функционального подхода, прочно утвердившегося в современном языкознании, состоит в «специальной разработке динамического аспекта функционирования грамматических единиц и категорий во взаимодействии с элементами разных уровней языка, участвующими в выражении смысла высказывания» [8, с. 89]. При этом в числе основных направлений исследования в функциональной грамматике находится «рассмотрение актуализацион-ных категорий высказывания в их отношении к актуализационным признакам целостного текста» [6, c. 6]. К таким категориям относятся, наряду с функционально-семантической категорией темпоральности, модальность и персо-нальность (см. об этом подробнее: [7; 14]).
«Каждое предложение, – писал В.В. Виноградов, – включает в себя, как существенный конструктивный признак, модальное значение, т. е. содержит в себе указание на отношение к действительности» [9, с. 55]. Дан- ное замечание ученого согласуется с определением модальности, сформулированным французским лингвистом Ш. Балли: «это “душа предложения”... нельзя придавать значение предложения высказыванию, если в нем не обнаружено хоть какое-либо выражение модальности» [4, c. 44].
«Лицо, – отмечал А.М. Пешковский, – есть необходимая категория языковой (да и не только языковой) мысли, присущая ей по самой ее сущности: ведь без лица говорящего не может быть и речи, лицо говорящее необходимо предполагает лицо слушающее, и оба эти лица необходимо предполагают внешний мир, их объемлющий, являющийся для них третьим лицом. Три лица – это три основных точки языкового сознания» [11, с. 306].
Согласно научной традиции, лицо рассматривается в первую очередь как грамматическая категория, присущая глаголу. «Личный глагол, – писал в свое время В.Ф. Андреев, – выражает независимое понятие конкретно, нагляд- но. Из всех формальных признаков verbi finite, наиболее способствующих конкретности, или наглядности, есть обозначение лица и числа… Глагол служит сказуемым не потому, что он имеет время, вид и залог, а главнейшее потому, что он способен указывать лицо; словом, в глаголе, служащем в предложении сказуемым, мы считаем главнейшим признаком лицо» [1, с. 256]. Определения лица как морфологической категории содержатся в академических грамматиках (ср.: «Морфологическая категория лица – это система противопоставленных друг другу рядов форм, выражающих отнесенность или не-отнесенность действия к участникам речевого акта» [12, с. 636]) и энциклопедических словарях (ср.: «Лицо – грамматическая словоизменительная категория глагола, обозначающая отношение субъекта действия (процесса, качества) к говорящему лицу» [10, с. 271]).
Ничуть не сомневаясь в правомерности приведенных определений категории лица, обратим, однако, внимание на тот факт, что из этих определений вытекает понимание данной категории как коммуникативной, самым непосредственным образом связанной «с отношением обозначаемой ситуации и ее участников к ситуации речи» [7, с. 30]. Иными словами, речь идет о полифункциональности данной категории, выполняющей, с одной стороны, структурные функции согласования сказуемого и подлежащего, а с другой – собственно семантическую дейктическую функцию соотнесения участников обозначаемой ситуации с участниками речевого акта и выступающей в данном случае в качестве функционально-семантической категории персо-нальности (более подробно об этом см.: [13]).
«Обобщая различные аспекты толкования категории персональности, – отмечают Л.В. Шишкова и Т.Ю. Смирнова, – можно выделить три основных подхода, не противоречащих друг другу по своей сути:
-
1) персональность рассматривается как грамматическая категория, значение “лица” выражается при помощи специальных грамматических средств (лицо как грамматическая категория глагола);
-
2) персональность рассматривается как семантическая категория, манифестируемая в языке самыми разнообразными языковыми средствами (синтаксическими, лексически-
- ми), описание которых осуществляется в виде функционально-семантического поля;
-
3) персональность рассматривается как коммуникативный аспект предложения, актуализируемый вышеуказанными языковыми средствами в зависимости от контекста – речевой ситуации. Персональность как актуализационная категория так или иначе выявляется в любом высказывании» [15, c. 33].
Очевидно, что категория персональнос-ти в совокупности ее плана содержания и плана выражения непосредственно соотносится с функционально-семантической категорией модальности и в первую очередь с субъективной модальностью, выражающей отношение говорящего к высказыванию относительно содержащейся в нем информации о «положении дел» с точки зрения вероятности, достоверности, возможности, необходимости и т. п. их осуществления.
Особенно наглядно данная соотнесенность проявляется в тексте, в первую очередь художественном, «вершину иерархии семантических компонентов которого составляет индивидуально-авторская концепция мира, ибо любое произведение представляет собой субъективный образ объективного мира действительности» [3, c. 66–67].
Рассмотрим категории персональности и модальности в аспекте их функциональной соотнесенности на примере реализации в рассказе «Дама с собачкой» и повести «Скучная история», которые относятся, как известно, к последнему периоду творчества А.П. Чехова, когда в его произведениях ярко и последовательно раскрывается проблема личного счастья. При этом важно отметить, что для писателя данная проблема существует не изолированно, а является неотделимой от социально-нравственных проблем современного ему общества, поэтому в его прозе столь драматичен конфликт между желанием и невозможностью достижения счастья.
В рассказе «Дама с собачкой» этот конфликт раскрывается с помощью внешне простого сюжета, построенного на описании истории превращения банального курортного любовного флирта в большую, настоящую любовь двух героев – Дмитрия Дмитриевича Гурова и Анны Сергеевны.
Центральными средствами выражения категории модальности в рассказе выступают модальные глаголы и предикативы, а категории персональности – личные местоимения, при этом функционирование языковых единиц обусловлено прежде всего со спецификой личностной характеристики героев.
Так, характеристика Гурова дается преимущественно через авторское описание, и именно автор фактически является здесь лицом говорящим, незримо присутствующим в произведении и непосредственно связанным с субъектом действия – в данном случае с Гуровым.
Представляя читателям своего героя, Чехов рисует его как ординарного, хорошо обеспеченного человека, не затрудняющего себя философскими размышлениями о смысле человеческого бытия и воспринимающего женщин как «низшую расу». И этот первоначальный образ героя, лениво размышляющего о возможности курортного знакомства с Анной Сергеевной, психологически точно передают языковые средства, подчеркивающие «дезактивность субъекта» [2, c. 74], его определенную отстраненность от «положения дел», описываемого в начале рассказа. В качестве таких средств выступают центральные конституенты плана выражения микрополя ситуативной модальности – безличные формы глаголов и предикативы с модальным значением непроизвольного желания / нежелания (хотелось, не лишнее, скучно), мнимой достоверности (казалось), предикативные наречия со значением потенциальной возможности (можно бы), с которыми непосредственно коррелируют ядерные эскспликаторы функционально-семантической категории пер-сональности – личные местоимения в косвенных падежах (ему, его). Например: Если она здесь без мужа и без знакомых, – соображал Гуров, то было бы не лишнее познакомиться с ней (с. 246) 1; Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их [женщин] как угодно (там же); Но при всякой новой встрече с интересной женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно (там же); Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, та- кое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она [Анна Сергеевна] шутит или играет роль (с. 248).
Вернувшись в Москву, Гуров первоначально с удовольствием окунается в привычную для него жизнь, наполненную устоявшимися «ритуальными» действиями обыденнобытового характера, и эта активность героя весьма выразительно подчеркивается личными глаголами и лично-указательными местоимениями в именительном падеже, а также безличными глаголами повышенной экспрессивной тональности. Ср.: … он уже с жадностью прочитывал по три газеты в день… (с. 250); Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке… (там же); Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи… (там же).
Неожиданно для себя Гуров вдруг понимает, что не может забыть Анну Сергеевну, и по мере того как у него крепнет и разрастается любовь к ней, он превращается «из счастливого, довольного, беззаботного москвича, умевшего пользоваться радостями жизни, в глубоко неудовлетворенного человека, вставшего перед трагически неразрешимыми для него вопросами» [5, c. 87]). Эта душевная раздвоенность героя находит адекватное выражение в специфике использования писателем экспликаторов категорий модальности и пер-сональности – глаголов и личных местоимений. Так, описывая воспоминания Гурова об Анне Сергеевне, Чехов наиболее часто прибегает к личным глаголам и лично-указательным местоимениям в именительном падеже. Ср.: Он долго ходил по комнате, и вспоминал , и улыбался … (с. 250); Закрывши глаза, он видел ее, как живую… (там же); На улице он провожал взглядом женщин, искал , нет ли похожей на нее (с. 251). Охватившая Гурова неудовлетворенность жизнью, невозможность рассказать о своей любви кому-нибудь, чтобы быть понятым, ярко подчеркиваются безличными глаголами с модальными значениями вынужденности и желательности. Ср.: И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах… (там же); Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить (там же).
Представляется важным отметить, что охватившее Гурова непреодолимое стремление вновь увидеть Анну Сергеевну писатель очень тонко передает с помощью использования модальных глаголов хотеть , хотеться , желать , фиксирующих повышенную психологичность желания, связанного со сферой эмоциональных переживаний, а также с помощью многократного употребления лично-указательного местоимения он в именительном падеже. Например: Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно (с. 252); Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и от волнения он не мог вспомнить, как зовут шпица (с. 253); ... он понял ясно, что для него теперь на свете нет ближе, дороже и важнее человека… она была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя (с. 254); Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным ... (с. 255).
В отличие от жизни Гурова, прошедшего трудный и мучительный путь «испытания любовью», жизненная ситуация другого персонажа рассказа – Анны Сергеевны – внешне проста и прозрачна – она искренно любит и глубоко страдает. При этом личностная характеристика данного персонажа дается главным образом через речь самой героини, которая выступает в тексте рассказа в качестве лица говорящего. Именно поэтому центральными средствами выражения ее поведения, поступков, чувств и мыслей являются личные глаголы и личные местоимения в форме 1-го лица, а также безличные формы модальных глаголов и глаголов интенсивного действия (в тех случаях, когда героиня говорит сама о себе), глаголы в форме повелительного наклонения и перформативные глаголы (в случаях, когда героиня обращается к любимому человеку). Например: Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю… Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он ла- кей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше: ведь есть же, – говорила я себе, – другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить… (с. 246); Я так страдаю! – продолжала она, не слушая его [Гурова]. – Я все время думала только о Вас, я жила мыслями о Вас. Имне хотелось забыть, забыть… (с. 253); Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас… Вы должны уехать… Заклинаю Вас всем святым, умоляю… Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву (там же).
В повести «Скучная история» раскрываются философские истоки духовной драмы героя – заслуженного профессора Московского университета Николая Степановича. По словам самого профессора (а повествование в произведении ведется от первого лица), несчастье его состоит в том, что ему не хватает цельного мировоззрения, или, как он говорит, «общей идеи». Отсюда у героя происходит мучительный разрыв между желанием и возможностью как основными философскими константами, определяющими сущность человеческого бытия. Эти духовные терзания героя сконцентрированы в конце повести в его размышлениях об итогах своей жизни, в экспликации которых важную роль играют ядер-ные компоненты плана выражения функционально-семантических категорий модальности и персональности – модальные глаголы и личные местоимения. Например: И теперь я экзаменую себя: чего я хочу ? Я хочу , чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей… Я хотел бы иметь помощников и наследников… Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет десять… Дальше что? А дальше ничего. Я думаю , долго думаю и ничего не могу придумать . И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить , в этом сидении на
РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю , нет чего-то общего, что связывало бы это в единое целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или богом живого человека. А коли нет этого, то, значит, нет и ничего (с. 324).
Как видно из приведенного отрывка, экспрессия модальной «направленности» размышлений героя, непосредственно перекликающейся с авторской модальностью, получает регулярную реализацию с помощью личных местоимений (преимущественно в форме 1-го лица) в сочетании с личными формами глаголов (главным образом модальных).
Такая же специфика в выражении размышлений и чувств героя отчетливо прослеживается и в остальном тексте повести. Ср.: Читаю я по-прежнему не худо; как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжение двух часов (с. 267); Говорю я неудержимо быстро, страстно, и кажется, нет той силы, которая могла бы прервать течение моей речи (с. 276); Только на лекции я мог весь отдаваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует на самом месте (с. 277); Среди лекции к горлу вдруг подступают слезы, начинают чесаться глаза, и я чувствую истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Я хочу прокричать, что я отравлен; новые мысли, каких не знал я раньше, отравили последние дни моей жизни и продолжают жалить мой мозг… (с. 278); Я не умел заступаться за нее [Катю], а только, когда видел грусть, у меня являлось желание привлечь ее к себе и пожалеть… (с. 284); Я... никак не могу помириться с тем торжественным выражением, какое бывает у моей жены всякий раз, когда сидит у нас Гнеккер, я не могу также помириться с теми бутылками лафита, портвейна и хереса, которые ставятся только ради него, чтобы он воочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не перевариваю я и отрывистого смеха Лизы… А главное, я никак не могу понять, почему это ко мне приходит каждый день и каждый день со мной обедает существо, совершенно чуждое моим привычкам, моей науке, всему складу моей жизни… (с. 292); Я чувствую, что далее я не могу видеть ни своей лампы, ни книг, ни теней на полу, не могу слышать голосов, которые раздаются в гостиной (с. 296); Ужас у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, отчего мне страшно: оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждет новая, еще неизведанная боль? (с. 318).
Лишь в немногочисленных текстовых отрывках (контекстах) повести нами зафиксировано употребление безличных форм глаголов и предикативов, используемых для выражения модальных значений непроизвольного желания или объективной необходимости, которые, как отмечалось выше, предполагают некоторую отстраненность субъекта действия (лица) от самого действия, что органично согласуется с его душевным состоянием. Ср.: Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, знаменитого человека, судьба приговорила к смертной казни… (с. 278); И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется , чтобы все мои слушатели ужаснулись… (с. 278–279); В без четверти десять нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию (с. 272).
Таким образом, проведенный анализ позволяет убедиться в функциональной рядопо-ложенности категорий модальности и персо-нальности, экспликаторы которых выполняют в художественном произведении важную текстообразующую задачу – создание личностной характеристики его персонажей, осуществляемую сквозь призму авторского миро-видения и авторских интенций.
Список литературы Специфика функциональной соотнесенности категорий модальности и персональности в художественном тексте
- Андреев, В. Ф. Знаменательные и служебные слова в русской речи/В. Ф. Андреев//Журнал министерства народного просвещения. -1895. -№ 10. -С. 238-279.
- Бабайцева, В. В. Односоставные предложения в современном русском языке/В. В. Бабайцева. -М.: Просвещение, 1968. -160 с.
- Бабенко, Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста/Л. Г. Бабенко, И. Е. Васильев, Ю. Б. Казарин. -Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та, 2000. -533 с.
- Балли, Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка: пер. с фр./Ш. Балли. -М.: Изд-во иностр. лит., 1955. -418 с.
- Бердников, Г. П. Чехов в современном мире/Г. П. Бердников//Вопросы литературы. -1980. -№ 1. -С. 65-97.
- Бондарко, А. В. Лингвистика текста в системе функционально-семантических категорий/А. В. Бондарко//Текст. Структура и семантика. Т. 1. -М.: Наука, 2001. -С. 4-13.
- Бондарко, А. В. Семантика лица/А. В. Бондарко//Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. -СПб.: Наука, 1991. -376 с.
- Бондарко, А. В. Функциональная грамматика/А. В. Бондарко. -Л.: Наука, 1984. -136 с.
- Виноградов, В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке/В. В. Виноградов//Избранные труды. Исследования по русской грамматике. -М.: Наука, 1975. -С. 53-88.
- Лингвистический энциклопедический словарь. -М.: Сов. энцикл., 1990. -682 с.
- Пешковский, А. М. Русский синтаксис в научном освещении/А. М. Пешковский. -М.: Учпедгиз, 1956. -611 с.
- Русская грамматика. В 2 т. Т. 1. -М.: Наука, 1980. -784 с.
- Степаненко, К. А. Категория лица в функционально-семантическом аспекте (на материале русского и португальского языков): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19/Степаненко Катерина Александровна. -Калининград, 2009. -23 с.
- Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. -Л.: Наука, 1990. -264 с.
- Шишкова, Л. В. Синтаксис современного немецкого языка/Л. В. Шишкова, Т. Ю. Смирнова. -М.: Academia, 2003. -125 с.