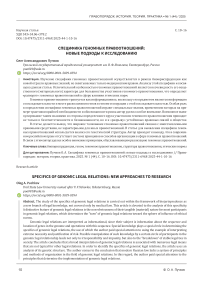Специфика геномных правоотношений: новые подходы к исследованию
Автор: Пучков О.А.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: История и общая теория обеспечения правопорядка
Статья в выпуске: 1 (44), 2025 года.
Бесплатный доступ
Изучение специфики геномных правоотношений осуществляется в рамках биоюриспруденции как новой отрасли правовых знаний, не охватываемых только медицинским правом. Анализу этой специфики и посвящена данная статья. Отличительной особенностью геномных правоотношений является неочевидность его вещественного (материального) характера для большинства участников геномного правоотношения, что определяет «разворот» геномных правоотношений в сферу влияния этических норм. Геномное правоотношение трактуется как информационное, поскольку его предметом является информация о последовательности и месте расположения генов в геноме и операции с этой последовательностью. Особая роль в определении специфики геномных правоотношений играют специальные знания, применению которых на примере трактовки крайней необходимости и обоснованности риска автор уделил особое внимание. Возможное манипулирование таким знаниями со стороны определенного круга участников геномного правоотношения приводит не только к безответственности и безнаказанности, но и к «разрыву» устойчивых правовых связей в обществе. В статье делается вывод, что широкое толкование геномных правоотношений связано с многочисленными правовыми средствами, не характерными для иных правоотношений. В статье для выявления специфики геномных правоотношений используется анализ его генетической структуры. Автор приходит к выводу, что в современном российском праве отсутствует система принципов и способов организации в сфере геномных правоотношений. В связи с этим автор уделил особое внимание принципам, обуславливающим реализацию геномных правоотношений.
Биоюриспруденция, геном, геномное правоотношение, структура правоотношения, этические нормы
Короткий адрес: https://sciup.org/14133268
IDR: 14133268 | УДК: 343+34.06+378.2 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-44-1-10-16
Текст научной статьи Специфика геномных правоотношений: новые подходы к исследованию
Очевиден факт, что геномные правоотношения развиваются в рамках биосоциальных и политико-правовых аспектов современного гуманизма. Важным направлением современного гуманизма является, на наш взгляд, проблема свободы выбора, защиты достоинства человека и повышение его сознательности в области потребления современных медицинских достижений. Биоюриспруденция в современном мире, зацикленная на проблемах состояния невменяемости, а также на практических вопросах, связанных с наказанием лиц, страдающих психическими расстройствами, должна развернуться в сторону биомедицинских технологий клонирования, использования стволовых клеток, эвтаназии и, в целом, геномного облика человека. Безусловным прорывом в этой сфере следует считать обоснование биоюриспруденции как отрасли правовых знаний.
В 2013 г. В. П. Сальников и С. Г. Стеценко обосновали идею биоюриспруденции как отрасли правовых знаний, посвященной вопросам жизни человека в качестве высшей биосоциальной ценности. Авторы предприняли успешную попытку отграничения биоюриспруденции от медицинского права, биоэтики, общей теории прав человека [8].
Безусловно, точность использования терминологического и понятийного аппарата — это важнейший показатель эффективности биоюриспруденции. В рамках настоящей статьи остановимся на таком вопросе как специфика геномных правоотношений, который постепенно приобретает универсальную форму нормативности, присущую современному этапу биосоциального развития. При этом, отметим, что нормативность объективно всегда противоречива, т. к. при ее формировании неизбежно сталкиваются традиционные нормы с новыми, находящимися в стадии становления.
В теории права исходят из того, что правоотношение — это единство материального (фактического) содержания и юридической формы. В геномных правоотношениях, как и в любых других, юридическая форма правоотношения представляет собой субъективное право и юридическую обязанность как мера дозволенного поведения субъектов правоотношения, а материальное (фактическое) содержание правоотношения — это фактическое поведение субъектов правоотношения. В этой связи следует согласиться с мнением Р. О. Хал-финой о том, что в правоотношении присутствуют три элемента: а) участники правоотношения; б) права и обязанности, их взаимосвязь; в) реальное поведение участников правоотношения в соотношении с правами и обязанностями. Сам же объект, по мнению Р. О. Халфи-ной, не является элементом правоотношения. Он имеет колоссальное значение для возникновения и развития видов правоотношений, но при этом не входит в их структуру, т. е. не является элементом этой структуры [11, с. 211–212, 215, 217].
По поводу включенности (не включенности) объектов в правоотношение, можно поспорить с автором, но наше убеждение о правильности трактовки геномного правоотношения как обладающего дополнительными признаками, не характерными для иных правоотношений, базируется на анализе родового понятия «отношение». Отношение — это не просто связь элементов целой структуры, но, прежде всего, их зависимость друг от друга. Отношение — это всегда свойство (признак) чего-либо (вещей, прав, обязанностей) и т. д. Вещь или явление, взятые в «разных отношениях», выявляют различные свойства. Таким образом, свойства определяются отношением, а последнее — включает в себя эти проявленные свойства» [10, с. 470].
Итак, в основе любого отношения лежит проявление свойств вещей и явлений. Представляется, что это и определяет специфику геномных правоотношений. Вещь (геном как материальный объект) объективно существует, но при этом он не очевиден для субъекта правоотношения как заказчика. Если попытаться уместить все гены человечества как жившего ранее, так и живущего сейчас, то максимально по объему они займут меньше наперстка.
Геном и геномное правоотношение
Следует отметить, что зачастую основным благом, по поводу которого возникает геномное правоотношение, является информация: ведь, собственно, геном — феномен информационного характера. Это записанные при помощи последовательности генов данные. Также имеет огромную ценность информация о местоположении тех или иных генов в геноме, об их последовательности: именно это знание позволяет осуществлять геномные манипуляции, «вырезая» или «вставляя» нужные гены и, тем самым, модифицируя геном [6, с. 62].
Не вызывает сомнения факт, что геномные правоотношения в гораздо большей степени, чем все иные, базируются на этических (нравственных) убеждениях, привычках, обыкновениях, правах. Иными словами, на уровне мировоззрения личности, социальной группы, сообщества и общества в целом. Мораль же как форма общественного сознания, являющаяся объектом изучения, всегда основывается на специфических явлениях общественной жизни, в т. ч. геномных. Все вышеперечисленное составляет основу нормативно закрепленного права в сфере геномных отношений.
Еще в начале прошлого века П. И. Люблинский отмечал, что «сложное поведение, контролируемое законодательством, не может держаться лишь элементарной угрозой принуждения или грубым устранением. Его опорой может служить только развитое этическое сознание»
[3, с. 27–35]. Нравственность геномных правоотношений проявляется не только в их этической обоснованности (с учетом специфики их объекта), но и в этической безупречности субъектов этих правоотношений в сфере правового регулирования генома.
Специальные знания о геноме и право
Также следует отметить роль специальных знаний, определяющих специфику геномных правоотношений. Специальные знания одинаково важны и в сфере деятельности медицинского работника, и в сфере деятельности законодателя и правоприменителя, а также и заказчика-пациента (носителя геномных прав и юридических обязанностей). Разумеется, уровни этих знаний разные. Вот почему на первый план выступает этическая основа геномных правоотношений как фиксатор ценности человеческой жизни и ее достоинства. Само специальное знание, составляющее теоретический базис доктрины о геномном правоотношении, также должно трактоваться не совсем в привычном для традиционной правовой доктрины русле: это не только обоснованная, общезначимая, интерсубъективная знаковая система, оно в данном случае должно включать социально-философский, правовой, культурно-антропологический и этический аспекты. Безусловно, для заказчика (субъекта правоотношения) главную роль в таком специальном знании будет играть именно этический аспект. Также возможен факт злоупотребления специальным знанием со стороны субъекта (участника) геномного правоотношения, оказывающего услугу. В этой связи нам представляется, что широкая трактовка обоснованного риска в медицинской деятельности, позволяющая безнаказанно осуществлять значительный спектр услуг в генной медицине, должна быть исключена из российского законодательства в сфере геномных правоотношений. И это, на наш взгляд, также определяет специфику геномных правоотношений.
Сопряженность медицинской деятельности в сфере генома с возможностью негативного воздействия на организм пациента, должна трактоваться, на наш взгляд, как квазиуголовная. В этой связи именно в практике реализации правовых связей по поводу генома необходимо понимать, что оказание такой медицинской помощи на основе состояния крайней необходимости практически не применимо. В то же время в России наблюдается универсализация этого понятия: любая медицинская деятельность может быть признана «состоянием крайней необходимости, поскольку само обращение за такой помощью вызывается острой, насущной потребностью» [2, с. 23]. С данной позицией можно поспорить. Так, А. Л. Абрамов, с которым мы солидарны в данном вопросе, полагает, что «при крайней необходимости существует только одна цель — спасение жизни человека, и она достигается путем применения неапробированно-го препарата, нестандартных форм и методов лечения, при условии, что угроза жизни человека не могла быть предотвращена иными способами» [1, с. 31].
Такая широкая трактовка крайней необходимости, безусловно, на руку недобросовестным и неквалифицированным медицинским работникам и не представляется научно обоснованной. «Прежде всего, как справедливо отмечаетсяв литературе, за медицинской помощью могут обращаться и в целях омоложения, изменения пола, формы тела, для преодоления естественного облысения, т. е. по причинам, не связанным с наличием непосредственной опасности для жизни и здоровья человека. В таких случаях правомерность действий медицинского работника не укладывается в границы законодательной конструкции крайней необходимости» [7, с. 29].
Этические аспекты геномных правоотношений
Таким образом, нечеткость понятийно-терминологического аппарата, в целом применяемого в медицинской деятельности, абсолютно недопустима в сфере геномных правоотношений, где понятия «обоснованное решение» и «крайняя необходимость» должны иметь корректные значения и смысл, адекватный сфере их использования. Иначе логика дальнейшего развития геномных правоотношений может выстраиваться по ложному пути, когда отсутствие нормы ведет к признанию отсутствия проблемы. Например, хотя клонирование человека запрещено в большинстве стран мира, однако при этом терапевтическое клонирование продолжает существовать. То есть действие законов не распространяется на клонирование иных организмов.
Сейчас наибольший интерес вызывает допустимость клонирования эмбрионов, т. к. с точки зрения законодательства многих стран мира эмбрион — это не жизнь, охраняемая законом. Терапевтическое клонирование заканчивается уничтожением эмбриона, но где правовые гарантии его уничтожения? Где правовые гарантии того, что эмбрион — это не жизнь?
В этой связи представляет интерес определение Британской комиссии (2004 г.), куда обратилась группа ученых из Ньюкасла на получение лицензии на терапевтическое клонирование, которая заключила, что тем самым будет спровоцировано масштабное преступление. «Это будет очередным примером того, как человеческий эмбрион, начало человеческой жизни, целеустремлённо создается с тем, чтобы его использовать и затем уничтожить» [7, с. 192].
Все это, вместе взятое, безусловно, является основанием того, что именно в рамках геномных правоотношений в гораздо большей степени, чем в других, возникают негативные характеристики и прежде всего такие, как безнаказанность и безответственность. Напомним, что, принимая нюрнбергские законы, фашисты руководствовались научным обоснованием своей политики, в т. ч. ссылались на данные генетики. Так, Э. Фишер, один из идеологов расовой генетики, утверждал: «евреи принадлежат к другому биологическому виду» [4]. И данное утверждение служило оправданием массовых убийств.
Исследуя некоторые особенности структуры правоотношений, Ю. С. Новикова приходит к выводу, что «существует точка зрения, что в содержание правоотношения можно включать и другие правовые средства. Это прежде всего факты, правоспособность и дееспособность участников правоотношения, а также правовой режим объектов правоотношения» [5, с. 51]. Автор заключает, что эта точка зрения не получила поддержки со стороны большинства ученых. Но попытки рассмотреть объем понятия «правоотношение» продолжаются, что имеет под собой объективную основу (например, специфику объекта), требующую включения в анализ правоотношения дополнительных характеристик. Ю. С. Новикова при этом приводит мнение Ю. И. Гревцова, полагающего, что подход к правоотношениям как системе позволяет говорить о том, что правовое отношение обладает несколькими структурами: генетической, формальной и функциональной. «Генетическая структура правового отношения характеризуется способом связи между правоотношением и его социальными предпосылками, то есть между правоотношением и общественным отношением, облеченным в правовую форму. Генетическая структура правоотношения, таким образом, отражает притязания участников отношения, характер их юридического закрепления, отражает особенности возникновения данного правоотношения как вида общественного отношения» [5, с. 57] (курсив наш. — О. П.).
Формальная структура правоотношения представляет собой способ связи между его элементами — субъективными правами и юридическими обязанностями.
Функциональная структура правового отношения — это результат динамики реализации правоотношения, его развития, в процессе которого его субъекты используют, исполняют и соблюдают нормы права. «Здесь происходит реальное взаимодействие между субъектами правоотношения, воплощающими свои интересы и потребности в жизнь» [5, с. 58].
Такой широкий подход к сущности правоотношения крайне важен, на наш взгляд, для понимания специфики геномных правоотношений, что позволяет определить проблемы обоснованности, приемлемости и допустимости функциональных объяснений геномных правоотношений.
Таким образом, можно констатировать, что специфика геномных правоотношений в гораздо большей степени, чем все иные типы правоотношений, состоит в их практической реализации (в данном случае — в медицине), которая редко выходит за свои пределы и не фиксируется как юридическая практика. Тем более отсутствие юридической фиксации такой практики влечет и отсутствие ее методологического обоснования.
Иными словами, следует признать отсутствие в современном праве системы принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности в сфере геномных отношений, а также отсутствие целостного учения об этой системе.
Методология и сложные вопросы геномных правовых отношений
Методология как понятие охватывает преимущественно совокупность представлений о научной позитивной деятельности, опирающейся на философские основания. Это не оспаривается исследователями методологии права. Но, вместе с тем, в современной правовой доктрине методология рассматривается как внутренне дифференцированное и специализированная область знания, что предполагает исключительно теоретический уровень познания.
Поскольку как наука, так и практика редактирования генома человека выходят за рамки национальных границ, основные принципы управления этими технологиями основаны на общепризнанных принципах и нормах международного права. Некоторые из этих принципов обычно актуальны для биомедицинских исследований, в то время как другие имеют особое значение в контексте новых технологий, но все они лежат в основе управления редактированием генома человека.
Редактирование генома открывает большие перспективы для углубления понимания биологической природы человека, а также для предотвращения, профилактики или устранения многих заболеваний и приравненных к ним биологических состояний человека. «Следующие общие принципы являются важной основой для этого: содействие геномному благополучию человека, прозрачность, должная осмотрительность, научная ответственность, уважение к личности, справедливость, транснациональное сотрудничество» (пер. авт. — О. П. )1.
При этом принцип прозрачности требует открытости и обмена информацией такими способами, которые являются доступными и понятными для заинтересованных лиц.
Обязанности, вытекающие из соблюдения этого принципа, включают: 1) обязательство максимально широко и своевременно раскрывать информацию о вмешательстве в геном человека, и 2) участие органов общественного контроля в процессе разработки государственной политики в области редактирования генома человека.
Наиболее значимым для российского законодательства, на наш взгляд, является принцип должной осмотрительности — важный принцип, отсутствующий в отечественном законодательстве. Принцип должной осмотрительности предполагает особый уход за пациентами, участвующими в научных исследованиях или получающими клиническую помощь, предполагающую вмешательство в геном. Важность этого принципа заключается в том, что вмешательство в геном человека должно быть основано на методах доказательной медицины. Такое понятие, как «методы доказательной медицины» отсутствует в российском законодательстве вообще, и, тем более, в сфере геномной медицины.
Однако это не опровергает главного — осторожного и обдуманного подхода к вмешательство в геном человека с учетом этого принципа. Обязанности, вытекающие из соблюдения этого принципа, включают в себя: 1) действовать осторожно и поэтапно, под соответствующим контролем; 2) применять такие методы, которые являются апробированными в практике геномной медицины; 3) проводить частую переоценку их эвристической состоятельности в свете будущих геномно-технологических достижений и динамики общественного мнения.
Как соматическое, так и зародышевое редактирование генома человека регулируется в России в рамках исследований по переносу генов и генной терапии, которая применяется к работе с тканями и клетками человека, начиная с ранних стадий лабораторных исследований и заканчивая доклиническими испытаниями, клиническими испытаниями на людях, одобрением для введения в медицинскую терапию и пострегистрационным надзором. Надзор также может осуществляться на основе добровольного саморегулирования в соответствии с профессиональными руководящими принципами. В российской юрисдикции работа с эмбрионами подпадает под единую законодательную базу и осуществляется в рамках надзорной деятельности одного государственного органа.
Отметим при этом, что некоторым конкретным научным направлениям (генной медицины в т. ч.) присуща неоправданная тенденция к универсализации: стремление обрести единство с международно-правовыми принципами. Но к чему приводит эта тенденция в сфере геномных правоотношений? К неопределенности реальных возможностей и границ каждой формы конкретно-научного исследования.
С другой стороны, излишняя свобода от устоявшихся методологических правовых оснований в сфере геномных правоотношений тоже приводит к некорректным результатам и «размыванию» границ ответственности субъектов геномных правоотношений. Так, в США каждый штат имеет свою правовую основу и свои нормы права в этой сфере, связанной с организацией, биомедицинскими принципами и финансированием генной терапии.
Специфика геномных правоотношений состоит в том, что в них переплетаются интересы межгосударственные, интересы национальных государств, интересы медицинских и научных организаций, интересы личностей (заказчиков и пациентов).
Но «геномные» интересы, лежащие в основе геномных правоотношений, не тождественны утвердившемуся в праве пониманию правового интереса, хотя они очень близки между собой. Между тем, по-прежнему нет единого мнения об элементах, составляющих круг объектов геномных интересов, а также нет ясности о составе объектов геномных правоотношений. Также проблематичным представляется вопрос о геномных правах как абсолютных, при которых их содержание не зависит от воли законодателя. Например, право на жизнь, право на телесную неприкосновенность. Возникает вопрос, можно и нужно ли рассматривать геномные права в таком русле? На наш взгляд, можно, потому что геномный облик человека тождественен его праву на жизнь.
Или же это относительное право, затрагивающее область отношений государства и личности, личности и общества, граждан между собой. Как известно, федеральным законом Российской Федерации взаимоотношения между пациентом и органами здравоохранения переведены из сферы регулирования административного права в сферу гражданско-правовых отношений1. При этом законодатель, по-видимому, исходил из того, что пациент приобрел правовой паритет с другими участниками процесса медицинского обслуживания, став, к примеру, равноправным субъектом медицинского страхования. Создает ли это в действительности новые возможности в области защиты прав пациента? Нам представляется, что нет, и в сфере геномных правоотношений такой подход выглядит преждевременным.
Проблемы понимания правовой геномики
Сегодня наши представления о правовой геномике складываются: 1) из совокупности информации о реальных манипуляциях с геномом человека; 2) информации о правовых нормах и действующем федеральном законодательстве в указанной области; 3) совокупности информации о практике реализации и применения названного законодательства гражданами, медицинскими, административными и судебными органами в области генома человека.
В реальной жизни правовая геномика предстает перед нами как формирующаяся юридическая доктрина о геномных правоотношениях, а также как система нормативно-правовых установлений. Последнее представляет из себя правовой фундамент, на основе и в пределах которого осуществляются многообразные реальные действия специалистов-генетиков, ученых-медиков, действия иных уполномоченных и заинтересованных субъектов по поводу генома человека2. При этом чаще всего эти действия облекаются в форму правовых отношений.
Геномное правоотношение — это реальное, фактическое, возникшее в конкретной жизненной ситуации общественное отношение физических и/или юридических лиц, по поводу использования в форме исследования, применения, хранения гена особи человеческой популяции. Отношение по поводу генома приобретает правовую форму в результате урегулированности жизненного случая нормой права действующего закона,, договором, судебным или административным актом.
Важной и при этом обязательной стороной геномных правоотношений являются их субъекты, которых следует именовать « специальными субъектами ». Это, преимущественно, исполнители по соответствующим соглашениям на медицинские услуги лечебно-профилактического, медико-реабилитационного характера или иные научные исследования генома. В этом случае специальными субъектами выступают юридические лица, которые должны обладать государственной лицензией на осуществление медицинских экспертиз, в том числе лицензией на проведение генетической экспертизы1. Условиями предоставления такой лицензии являются исполнение требований, предъявляемых к соответствующим помещениям, оборудованию и профессионально подготовленному персоналу. Последний должен обладать профессиональной квалификацией или специальной подготовкой , позволяющей квалифицированно осуществлять требуемую деятельность по поводу генома человека [9, с. 14–15].
Другая сторона в геномном правоотношении — физические лица (заказчики), т. е. граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, нуждающиеся в медицинском обслуживании по поводу генома, научных исследованиях их генетического здоровья, благополучии их генетической жизнедеятельности.
Сказанное выше позволяет заключить, что правовая геномика (биоюриспруденция) — преимущественно геномные правоотношения, которые возникают на основе законодательных норм права, регулирующих деятельность по поводу генома. Эта деятельность в большинстве своем осуществляется в трех сферах — в сфере науки в области здравоохранения, в сфере надзора и в сфере повседневной, обыденной жизнедеятельности реального человека, т. е. потребителя геномных достижений, участника реальных правовых связей в области генома в большинстве своем реализуемых на основе устоявшихся этических норм в этой сфере.
Выводы
-
1. Современный уровень развития биоюриспруденции не охватывает полностью (как систему) геномные правоотношения, зачастую неоправданно отождествляемых с медицинским правоотношением.
-
2. Специфика геномных правоотношений, т. е. обладание ими дополнительными признаками базируется на анализе родового понятия «отношения», понимаемое не только как связь элементов геномной структуры, но и как уровень зависимости их друг от друга. Отношение в праве в связи с характеристикой геномного правоотношения в большей степени приобретает свойства (признака) чего-либо (предметов, прав и обязанностей и пр.).
-
3. Геном как предмет исследования является неочевидным для субъекта правоотношения (заказчика услуги в сфере геномной медицины). В связи с этим в сфере геномных отношений зачастую информация является основным благом. Геном — феномен информационного характера. Это записанные при помощи последовательности генов данные, информация о местоположении генов в геноме. Именно это знание позволяет осуществлять геномные манипуляции, «вырезая» или «вставляя» нужные гены, тем самым, модифицируя их.
-
4. Неочевидность генома как материального объекта для любых лиц, в том числе и большинства медицинских работников, «разворачивает» геномные правоотношения все более в сторону соблюдения этических принципов, выработанных обществом. Речь идет об этической безупречности геномных правоотношений.
-
5. Специфика геномных правоотношений проявляется в особенности специальных знаний, доступных крайне узкому сообществу медицинских работников. Отсюда — все более возрастает возможность недобросовестного манипулирования этими знаниями. Это сказывается на «размытости» правовых представлений, таких, например, как «крайняя необходимость».
-
6. Практическим является вопрос о геномном правоотношении как абсолютном или относительном. Перевод абсолютных прав в практику гражданских правоотношений создает новые возможности в области защиты прав пациентов.