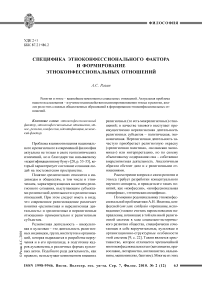Специфика этноконфессионального фактора и формирование этноконфессиональных отношений
Автор: Разин А.С.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Религия и этнос - важнейшие компоненты социальных отношений. Актуальная проблема нашего исследования - изучение взаимодействия взаимопроникновения этноса и религии, ана- лиз роли этих сложных общественных образований в формировании этноконфессиональных от- ношений.
Этноконфессиональный фактор, этноконфессиональные отношения, этнос, религия, конфессия, идентификация, исламский фактор
Короткий адрес: https://sciup.org/14974404
IDR: 14974404 | УДК: 2+1
Текст научной статьи Специфика этноконфессионального фактора и формирование этноконфессиональных отношений
Проблема взаимоотношения национального и религиозного в современной философии актуальна не только в свете геополитических изменений, но и благодаря так называемому «идентификационному буму» [20, p. 53–55], который характеризует состояние сознания людей на постсоветском пространстве.
Понятие «религиозное» относится к индивидам и общностям, в том числе и этническим, характеризующимся наличием религиозного сознания, выступающим субъектами религиозной деятельности и религиозных отношений. При этом следует иметь в виду, что современное религиоведение различает понятия «религиозная и нерелигиозная деятельность» и «религиозные и нерелигиозные отношения» применительно к религиозным субъектам.
Религиозная деятельность – внекульто-вая и культовая – это деятельность религиозных индивидов, групп, институтов и организаций, которая выражается в разработке вероучения и в его пропаганде, в подготовке кадров духовенства, в различных формах культовых актов. Подобного рода деятельность, как правило, не выступает компонентом внешних религиозных (то есть межрелигиозных) отношений; в качестве такового выступает преимущественно нерелигиозная деятельность религиозных субъектов – политическая, экономическая. Нерелигиозная деятельность зачастую приобретает религиозную окраску («религиозная политика», «исламская экономика») или интерпретацию, но по своему объективному содержанию она – собственно внерелигиозная деятельность. Аналогичным образом обстоит дело и с религиозными отношениями.
Рассмотрение вопроса о связи религии и этноса требует разработки концептуального научного аппарата, и прежде всего таких понятий, как «конфессия», «конфессиональная специфика», «этническая специфика».
По мнению родоначальника этноконфес-сиональной проблематики А.Н. Ипатова, конфессией (от лат. confessio «признание, исповедание») можно считать вероисповедное направление, возникшее в той или иной религиозной системе в ходе социально-исторического развития общества, специфически сочетающее в себе вероучительные, культовые и организационно-структурные особенности этой системы [9, с. 22]. Таким является христианство, которое отличается чрезвычайной многоконфессиональностью (католицизм, православие, лютеранство, англиканство, кальвинизм, меннонитство, баптизм). Многие из этих церквей носят этнически выраженный характер, приобретенный ими в результате длительного этноконфессионального взаимодействия [6, с. 128].
На этой основе в сознании людей происходит отождествление конфессиональной и национальной принадлежности, которое находит выражение в виде дихотомных схем типа «поляк-католик», «русский-православный». Для «конфессии» характерны достаточно высокие уровни самосознания, организации и институ-тализации с единым центром догматики.
В этом плане интересны исследования современного канадского ученого-этнографа М. Бушара [5]. Анализируя письменные памятники средневековой Руси, в частности «Псалтырь», «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, М. Бушар приходит к следующим выводам:
-
-русская нация обязана своим образованием не столько государству, как полагает большинство исследователей, сколько православию;
-
- древнейшие письменные религиозные памятники, особенно Псалтырь, ясно показывают, что истоки русской нации лежат в православной вере.
Именно православие явилось формирующим и объединяющим фактором, послужившим превращению населения Киевской Руси в единый русский народ. На ранних стадиях развития русской нации именно единая православная вера стала той парадигмой, что лежала в основе национального самосознания.
Русская нация действительно плод тысячелетней истории. Крещение Руси в 988 году может рассматриваться как отправная точка формального отсчета становления русской нации. Здесь и следует искать истоки русского национального самосознания и русского этноса.
Этнические и конфессиональные общности представляют собой общности культурноспецифические. При этом они не равнозначны ни содержательно, ни хронологически. Этнические различия, как и традиционные различия в религиях, по мысли американского антрополога Роджера Брубакера (R. Brubaker), универсальны для человечества в исторический период его существования [18, p. 31–37].
Этногенетичными были давно исчезнувшие религии. Изучение таких религий Древнего Востока и античного мира, как египетская, вавилонская, сирийская, греческая и др., обнаруживает у них тесную связь конфессиональной специфики с этнической спецификой народов, использовавших эти религии. Например, только участием в жертвоприношениях и процессиях, соблюдением предписаний относительно приема пищи и омовений можно было доказать свою принадлежность к определенной религии [19, p. 220–222].
Связь этнической специфики с конфессиональной проявлялась и в том, что принадлежность индивида к определенной религии выступала в качестве его этнической принадлежности. Результаты взаимодействия религии и специфики того или иного этноса были по существу этноконфессиональными. Социальная зрелость этноса (завершение формирования некоторой общности или группы как этнической) характеризуется созданием собственной религиозно-ценностной системы.
Говоря о связи религии с этносом, необходимо отметить, что религия играет в одно и то же время этноразделительную и этноинтегрирующую роль, выступая в отдельных случаях в качестве силы, консолидирующей этнические общности. В подобных ситуациях религия, благодаря тесной связи с подвижными элементами психологии масс, укрепляла сцепляющие связи внутри этноса и тем самым противодействовала ассимиляции его с завоевателями. Самым ярким примером может служить история еврейского народа, который благодаря иудаизму не растворился, находясь в диаспоре около двух тысячелетий [4, с. 37–41].
Основные тенденции формирования социальных связей между религией и этносом проявляются в сфере взаимодействия конфессиональной и этнической специфики.
Первая тенденция – это «конфессиона-лизация» этнических явлений и свойств, при которой ряд особенностей культуры и быта в течение длительного взаимодействия впитываются культом, становятся его составными элементами. Исключительное значение религии в создании и укреплении этнической общности подчеркивал еще в начале ХХ века французский философ и социолог Эмиль Дюркгейм. Он отмечал, что религия освящает фундамен- тальные социальные связи общества, что придает социальным группам целостность. То, что священно, живет не столько в официальных законах, сколько в душе и совести живого человека [7, с. 113].
По мнению В.И. Корнева, «религия не только придает специфику социокультурному пространству, но и формирует психологию сообщества данного пространства, иначе говоря, именно религия создает психосоциокультурное пространство-время, которое способно вместить многие народы и этносы» [10, с. 33].
Вторая тенденция – это «этнизация» конфессиональных явлений и отдельных компонентов культового комплекса (особенно его ритуалов, религиозных обычаев и традиций) через проникновение его в национальные формы общественной жизни посредством слияния с народными верованиями, которые этно-генетичны. Конфессиональные явления приобретают характер этнических явлений, этнически окрашиваются. Следует заметить, что конфессия «этнизируется» лишь если ее представители проживают компактно, религиозные отличия проникают глубоко в быт, а вероучение, если оно было воспринято («прозелетич-но»), наследуется уже минимум в нескольких поколениях [21].
Необходимо отметить, что в мировых религиях отсутствует признание наций, основанных на этническом принципе (например, ислам признает лишь «умму», то есть сообщество правоверных, а для христианства «нет ни эллина, ни иудея» [12, с. 4]).
По мнению Л.Н. Митрохина, в конкретной национальной культуре религия не просто оболочка, или «внешний идеологический пласт», а «особая наука жизни», которая глубоко укоренена в хозяйственной деятельности людей, пронизывая их мироощущение [13, с. 23].
Резюмируя все вышесказанное, приходим к выводу, что этноконфессиональные отношения представляют собой, с одной стороны, форму отношений верующих к гипостазированным существам, свойствам, связям (прежде всего к Богу), с другой – форму отношений верующих друг с другом как в рамках своей общины и конфессии, так и вне их. В рамках последнего вида отношений представители разных религий все чаще входят в сферу внерелигиозных взаимодействий, они активно обсуждают вопросы войны и мира, экономики, социальную проблематику. Вовлеченность религиозных субъектов в область данных отношений объективно не может быть отнесена к сфере религиозных отношений, хотя субъективно в эти отношения может вкладываться и вкладывается определенный религиозный смысл.
Следует особо подчеркнуть, что слияние этнической и религиозной принадлежности не означает их тождества или нераздельности. Эти понятия фактически неотождествимы, так как большинство важнейших признаков и характерных черт этноса неприложимо к общности религиозной. В действительности, как полагает британский социолог М.Ф. Бендл (M.F. Bendle), мы имеем дело не с идентификацией как таковой, а с подменой ею связи, имеющей место между конфессиональной и этнической принадлежностью, которая (связь) и объясняет, почему, например, «поляк-католик» отличает себя от «литовца-католика», «русский-православный» – от «болгарина-православного», «узбек-мусульманин» – от «казаха-мусульманина», «белорус-католик» – от «белоруса-православного», и т. д. В свою очередь, сама эта связь, поскольку она исторически преходяща, опровергает всякое отождествление вероисповедания и национальности [17, p. 17].
Верующие, составляющие ту или иную общность (приход, конфессия и т. д.), вне стен церкви представляют собой уже не только (и не столько, учитывая реальное состояние религиозности, ее глубины, знания верующими россиянами вероучительных основ и т. п.) собственно верующих, членов того или иного религиозного сообщества. В миру они – прежде всего труженики, «хозяйствующие субъекты», озабоченные разнообразными земными проблемами – хозяйственными, социальными, политическими. Наряду с этим они представляют собой различные этносоциальные общности, вступающие в определенные отношения друг с другом.
В каждой из подобных общностей сложились свои социальные структуры, по-разному протекали этнообразующие процессы. Все они имеют и сходные черты, поскольку при их складывании имело место непосредственное воздействие конкретных конфессий на институциональные формы данных образований и социальное поведение этнофоров (членов этнических сообществ), с одной стороны, и наоборот: этнообразующие процессы накладывали свои особенности на указанные конфессии [2, с. 59–61]. Учитывая это, правомерно квалифицировать этноконфессиональ-ную общность как особый тип социальной общности людей с религиозно оформленным жизненным укладом, этническое самосознание которых выступает как религиозное, принимающее в конкретных социально-исторических условиях функции этнического определителя.
Вся совокупность представленных выше отношений может фиксироваться в понятии «религиозно-конфессиональные отношения», предложенном Ю.П. Зуевым и Н.В. Трусе-невой [8, с. 155], так как данное «синтетическое» определение наиболее полно раскрывает сущность этих сложных социальных отношений.
Наряду с отмеченным строгим различением межрелигиозных и межконфессиональных отношений, в отечественном религиоведении, в частности, в социологии религии и этносоциологии религии, сложилась и расширительная трактовка последнего вида отношений (межконфессиональных), когда в данный вид взаимодействий включаются отношения не только между представителями конфессий и конфессиональными организациями, но и между представителями различных религий и их организациями (см. напр.: [1; 3; 16]). Соответственно, когда мы употребляем понятие «этноконфессиональные отношения», то имеем в виду сложное взаимодействие между этническими общностями, их институтами и этнофорами, с одной стороны, и последователями разных религий и существующих в их рамках конфессий, а также субъектами этих религий и конфессий (религиозными группами, органами управления религиозных объединений, служителями церквей и религиозных объединений на их низовом, базовом уровне) – с другой.
Этноконфессиональные отношения – сложный и активно воздействующий на общественную жизнь современной России фе- номен. Анализ этого феномена позволяет установить конкретную роль религиозного фактора и его функций в многонациональном российском социуме (прежде всего – функцию этнонациональной интеграции и дезинтеграции), выявить взаимосвязи между этнонаци-ональным и религиозным сознанием россиян, между их этнокультурными и религиозными ценностями.
Термины «религиозный фактор», «этнический фактор» в последние годы становятся все более употребительными в общественных науках, в частности в религиоведении, политологии, этнологии, социологии, постепенно обретая качества и статус научных понятий, характеризующих определенные общественные явления. Однако в большинстве публикаций эти понятия употребляются пока без четкого определения, что порождает их многозначность и затрудняет применение в качестве инструмента научного познания.
Латинское слово factor (в современном переводе – «делающий», «производящий») изначально имело совершенно конкретное, приложимое к человеку содержание. Применительно к религии речь может идти как о факторах, влияющих на состояние, изменение, развитие самой религии и составляющих ее элементов (факторы эволюции религии, религиозного сознания, факторы стабильности или изменения религиозной ситуации, межконфессиональных отношений и т. п.), так и о тех ситуациях и процессах в обществе, стране, регионе, относительно которых сама религия или ее составляющие, конкретные проявления выступают факторами их состояния и динамики (религия как фактор духовного состояния общества, как фактор стабильности или обострения межнациональных отношений и т. д.). Именно в последнем случае правомерно употребление понятия «религиозный фактор», так как здесь прослеживается внешнее воздействие, оказываемое религией.
Относительно целостное определение исследуемого понятия предложил А.А. Ну-руллаев: «Религиозный фактор есть специфическое обозначение функционирования религии и ее институтов в системе социальных, экономических, политических, национальных и других отношений; все, что относится к религии и ее институтам как субъекту деятельности в разных сферах общественной жизни» [14, с. 100]. По его мнению, в посттоталитарный период, в условиях формирования демократического гражданского общества действует тенденция усиления влияния религиозного фактора на различные стороны жизни.
В приведенном определении существенно то, что в качестве религиозного фактора берется не религия сама по себе, а ее функционирование, и что религиозные институты рассматриваются в качестве субъектов деятельности. Из этого следует, что если религия как социальное явление потенциально всегда является фактором общественной жизни, то превращение ее в реальный фактор различных общественных процессов и общественной жизни в целом происходит путем осуществления религией ее социальных функций, через целенаправленную деятельность религиозных институтов. А поскольку религиозные институты и организации всегда имеют конфессиональную определенность, то религиозный фактор в большинстве случаев предстает в виде конфессионального фактора.
Наиболее полному и всестороннему исследованию в качестве конфессионального фактора в отечественной науке подвергнут исламский фактор. В трудах исламоведов, востоковедов, политологов, в исследованиях по международным отношениям этот термин утвердился с 60–70-х годах XX века, отмеченных арабо-израильским конфликтом, нарастанием национально-освободительной борьбы и процессами модернизации во многих странах исламского мира. Отечественный исламовед Г.В. Милославский усматривает специфическую особенность «исламского фактора» в политике в том, что он может проявляться одновременно как в группе элементов внешней политики, обусловленных внутренней сущностью государства, так и среди факторов влияния внешней среды [11, с. 127].
Будучи подсистемой общества, религия, многообразными связями переплетающаяся с другими компонентами общественной системы, в той или иной мере всегда является реальным фактором конкретных обществен- ных процессов, где реализуется выполняемыми социальными функциями.
В современном обществе этнические группы в условиях возрастания роли религиозного фактора с неизбежностью превращаются в этноконфессиональные группы, громко заявляют о себе. Поэтому для социальнофилософской мысли актуальным становится исследование природы, сущности понятия «эт-ноконфессиональный фактор».