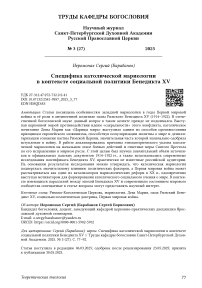Специфика католической мариологии в контексте социальной политики Бенедикта XV
Автор: Иеромонах Сергий (Барабанов)
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 3 (27), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена особенностям западной мариологии в годы Первой мировой вой ны и её роли в антивоенной политике папы Римского Бенедикта XV (1914–1922). В отечественной богословской науке данный вопрос в таком аспекте прежде не поднимался. Выступая церковной мерой противодействия идеям «сакральности» этого конфликта, католическое почитание Девы Марии как «Царицы мира» выступило одним из способов противостояния принципам европейского шовинизма, способствуя популяризации молитвы о мире и демилитаризации сознания паствы Римской Церкви, значительная часть которой изначально одобряла вступление в вой ну. В работе анализировались причины этноцентрического уклона католической мариологии на начальном этапе боевых действий и ответные меры Святого Престола по его исправлению в мирном русле. С этой целью был изучен значительный объём источников и официальных папских документов 1914–1922 гг., а также использовались современные исследования понтификата Бенедикта XV, практически не известные российской аудитории. На основании результатов исследования можно утверждать, что католическая мариология подверглась значительному влиянию политических факторов, а Первая мировая вой на может рассматриваться как один из катализаторов мариологических реформ в XX в., одновременно выступая мотиватором для формирования католического социального учения о мире. В контексте имеющихся параллелей между эпохой Бенедикта XV и современным состоянием мирового сообщества освещаемые в статье вопросы могут представлять научный интерес.
Римско- Католическая Церковь, мариология, Дева Мария, папа Римский Бенедикт XV, социально-политическая доктрина, Первая мировая война
Короткий адрес: https://sciup.org/140312230
IDR: 140312230 | УДК: 27-312.47:272-732.2:2-41 | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_3_77
Текст научной статьи Специфика католической мариологии в контексте социальной политики Бенедикта XV
Противодействие шовинизму и популяризация общественной молитвы о мире, характерные для церковной политики Бенедикта XV в годы Первой мировой войн ы, стали причиной появления новых аспектов католической ма-риологии. Их анализ позволяет более полно проследить динамику развития данной области доктрины и восполнить пробелы в российской богословской науке, мало знакомой с личностью этого папы1. Причем, так как многие детали его правления оставались без внимания вплоть до начала XXI в., в западной историографии ситуация была весьма похожей2. Так, проф. Роже Обер писал, что Бенедикта XV «не понимали при его жизни и ещё мало знают через несколько десятилетий после его смерти»3. Всего страницу текста посвятил ему и Патрик де Лобье, автор исследования «Социальное учение христианства».
Между тем, Бенедикт XV был проницательным политиком и ещё до начала «Великой» вой ны предполагал её неизбежность, определённую антагонизмом многочисленных национальных партий и дисбалансом экономического развития Европы4, что можно наблюдать и в настоящее время.
Эти параметры ослабили господствовавшую ранее пастырскую стратегию Пия X (1903–1914), способствуя формированию новых пунктов католического социального учения, связанных с военным временем. Эти же критерии определили специфику западной мариологии как религиозной меры противодействия идеям «сакральности» этого конфликта, а также индивидуальные черты понтификата Бенедикта XV, открыто их осуждавшего. В контексте прогрессирующей дехристианизации европейского общества и политической напряжённости в современном мире изучение данной области знания может представлять большой научный интерес.
Исправление этноцентрического уклона почитания Девы Марии в 1914–1915 гг.
В анализируемый нами период свой ственное католицизму «чрезмерное преувеличение Богородицы в сотериологическом аспекте»5 ещё более способствовало почитанию Девы Марии как «Auxilium сhristianorum» (Защитницы христиан). Нередко это стимулировало этноцентрический уклон Её католического культа, прослеживавшийся в религиозных изданиях для фронта и в молитвенных практиках многочисленных церковных ассоциаций, просивших «лучезарного рассвета мира»6.
Наиболее ярко эти тенденции проявлялись в появлении политизированных названий Божией Матери, отражавших Её покровительство той или иной воюющей державе. Например, «Castellana d`Italia» («Защитница Италии»), что воспринималось следствием «масонского» понимания патриотизма, осуждавшегося Римской Церковью7.
Так как «истинное богородичное благочестие не носит индивидуалистского характера»8, понтифик активно противостоял этим тенденциям введением в церковный обиход аполитичных титулов «Мать милосердия» и «Царица мира»9.
В отдельных случаях использовалась совсем другая тактика, когда национальная окраска почитания Богородицы не только одобрялась, но и получала литургический характер. Примером стал праздник «Марии — покровительницы Баварии», установленный 26 апреля 1916 г. декретом Конгрегации ритуалов и таинств10. Причина его появления становится понятной из письма папы кардиналу Францу фон Беттингеру, архиепископу Мюнхена: «Нам не следует отчаиваться…, если мы… обратимся к Богу и Его великой Матери-Заступнице, Которую мы недавно повелели призывать как Царицу мира… <…> Именно Бавария… должна выполнять это более усердно»11.
Схожие процессы наблюдались и в Мексике, где Католическая Церковь испытывала ущемление своих прежних прав. В ответ на сообщения об этом понтифик предложил «проникнуться духом Христовой кротости», утешая паству тем, что «Пресвятая Богородица…, наблюдающая за мексиканским народом из святилища Гваделупы…, являет Себя настоящей Покровительницей нации, так что нет сомнения, что в столь горьком положении Она будет… надежной опорой»12.
Ещё один пример папского одобрения национального богородичного культа можно увидеть в объявлении Мадонны «Аранзазу» («Богоматери в шипах») небесной покровительницей басков и национальной святыней Испании, так как эта страна избегала вступления в вой ну13.
Данные шаги, ставшие следствием сложных социальных алгоритмов, придали католическому почитанию Девы Марии особую инерцию, усилившуюся по мере продолжения военного конфликта и неопределенности сроков его окончания.
В составлявшихся в этот период молитвах о мире особо подчеркивалась Её роль «Посредницы», магистериально приписанная «раздатчице небесных благодатей»14 энцикликами Льва XIII, руководствовавшегося «умозрительными теологуменами Бернардина Сиенского и его последователей»15. По данному поводу этот папа отмечал, что кроме как «через Марию ничего не может быть сообщено нам из безмерного сокровища Христовой благодати» и «никто не может приблизиться ко Христу, кроме как через Его мать»16.
Параллельно, взывая к протекции «славной и непорочной… Марии Богородицы» и «святого мужа Её Иосифа», католическая паства просила о «возвышении святой… Матери- Церкви»17, что было связано с политизированным принципом Libertas Ecclesiae18 и католической рецепцией всеобщего мира в контексте «римского» вопроса. На фоне этих проблем мариология, тесно связанная с богослужебным строем западного христианства, стала одним из определяющих элементов церковной стратегии Бенедикта XV, постоянно учившего о связующей роли Девы Марии между человечеством и Её Сыном19.
Так, в послании генеральному настоятелю монфортанцев по поводу 200-летия кончины Людовика де Монфора, основателя этого ордена, папа отметил, что «поощряя поклонение Божественной Матери, вы способствуете Царствию Божию в людях», а тот, кто «истинно любит Марию, … идет непосредственно через Мать к Сыну»20.
Ещё одним примером упоминания Богоматери как медиатриссы стало письмо кардинала Гаспарри в бенедиктинское аббатство Айнзильден — главное богородичное святилище Швейцарии, также державшейся в стороне от боевых действий. Утверждая местное «благочестивое братство… Пресвятой… Царицы ангелов», он писал, что «для получения благоволения Божия нет ничего более важного, чем молитвы к Нему и Его Святейшей Родительнице»21.
Таким образом, насущная потребность мира через побуждение Бога к милости посредством Девы Марии укрепляла веру католиков в Её близость ко Христу, разделившему с Ней Своё первосвященническое служение22.
Мариологическая стратегия Святого Престола в 1915–1921 гг.
В то же время одобрявшиеся параллели между Спасителем и Его Матерью провоцировали распространение неканонических изображений Мадонны в литургических одеждах, что привело к публикации запрета на подобную иконографию23.
Помимо этого, пресекалось издание сомнительных по содержанию книг, брошюр и статей, популяризировавших мистические «откровения» Мадонны и Её суеверное почитание в местах явлений, признанных Католической Церковью за таковые24. Называя подобные прецеденты оскорблением «истинного благочестия», наносящего «ущерб церковной власти», папа повелевал «ни под каким предлогом этого не делать», угрожая клирикам экскоммуникацией, а мирянам — отлучением от таинств25.
Исходя из этих данных, можно предположить, что начавшиеся в марте 1917 г. Фатимские явления в Португалии, продолжавшиеся 6 месяцев и собиравшие тысячи паломников, рассматривались именно в этом ракурсе, будучи признанными Римом лишь через 8 лет после кончины Бенедикта XV (в 1930 г.).
В то же время в литургической сфере проявление антивоенных идей католической мариологии не встречало никаких препятствий. Так, с 12 апреля 1916 г. через присвоение статуса «двой ного обряда» было повышено значение праздника «Перенесения св. Дома в Лорето»26. В результате этого почитание «Царицы мира» из Лоретанской литании быстро распространилось в другие центры почитания Девы Марии, способствуя уменьшению националистического уклона Её католического культа и увеличению тиража аполитичных религиозных изданий для фронта.
В качестве примера можно привести буклет «Размышления и молитвы к Скорбящей Богоматери во время вой ны» (1916 г.), объяснявший причины «слишком очевидной божественной кары» над Европой «высокомерием смертных, бунтующих против Бога» и религиозным безразличием европейцев27. В контексте этих размышлений единственным путем спасения указывалась необходимость послушания Римскому понтифику и возвращение Старого Света к активной христианской жизни, в том числе с помощью розария, объявлявшегося наиболее приемлемым способом молитвы о вразумлении глав воюющих держав, не способных самостоятельно найти выход из конфликта.
Побуждение «верных обоих полов… с сокрушенным… сердцем» призывать «Царицу Святейшего Розария» побуждалось разными способами — как маги-стериально, так и посредством индульгенций, применимых «и к покойным»28.
Учитывая миллионы погибших и масштабы разрушений, этот способ молитвы приобретал еще большую чем раньше популярность.
Так, 4 марта 1916 г. в письме кардиналу- викарию Рима Базилио Помпили понтифик писал, что «как вселенский пастырь душ» он не мог оставаться равнодушным к конфликту, «разрывающему Европу», и неоднократно пытался побудить «борющиеся народы сложить оружие». Однако безуспешность этих действий побуждает его использовать «любые… средства, которые могут помочь достичь желанной цели» и остановить «самоубийст во». Одним из таких «благоприятных» случаев стало намерение «некоторых благочестивых дам» в преддверии Великого поста объединиться в «духовном союзе молитвы и умерщвления плоти» во имя «прекращения… бедствия». Далее папа отметил, что он не мог не принять такое предложение, и «пусть все верные» поступят так же не только «в Риме и по всей Италии», но и в других воюющих странах, чтобы «представить… Престолу Божию… приношение добровольных жертв, которые умиротворят Его… справедливый гнев». По убеждению понтифика, вышеозначенные дела благочестия «по заступничеству Его скорбящей… Матери — Царицы мучеников» должны положить конец «такому долгому и страшному испытанию»29.
В контексте этих взглядов особыми местами, где «христианскому народу было легче… получить дары мира»30, объявлялись санктуарии Девы Марии и другие католические религиозные центры Её почитания, способствовавшие консолидации паствы и укреплению церковных институтов в условиях войны. Важность данных мер, увеличивших посещаемость наиболее известных мест поклонения (Рим, Лорето, Лурд и т. д.), отразилась и в повышении статуса епархиальных святилищ, также популярных среди верующих.
Так, в 1915–1916 гг. высокий общецерковный статус малой базилики был присвоен санктуарию «Di Nostra Signora della Guardia» в родной для папы Генуе31, храмам Nuestra Sinora del pino в Тероре (Канарские острова)32 и Santa Maria di Pozzano Superiore в Неаполе33, кафедральному собору Santa Maria в Вил-лафранка де Пенедес (Каталония, Испания)34, а также санктуарию Богоматери-Помощницы в Периамбуке (Бразилия)35.
Регулярная публикация декретов о «привилегиях и послаблениях» посещавшим их пилигримам значительно влияла и на увеличение интенсивности литургической жизни, так как получение соответствующих индульгенций
«из сокровищницы Церкви» было возможно лишь при участии паломников в молитве «о согласии христианских государей»36 и при обязательном причастии в строго определённые даты37.
В 1917–1918 гг. процесс продолжился и статус малой базилики был усвоен ещё нескольким богородичным церквям в разных странах мира: храму La Madonna Grande в Тревизо (область Венето)38, церквям Di Nostra Signora De Mersede в Буэнос-Айресе39 и Del Carmine Maggiore в Неаполе40, храму «De Mersede» в Барселоне41, санктуарию «Della Madonna del Sasso» в Локарио (Лугано, Италия)42, храму Santa Maria Assunta e San Pantaleone в Равелло43, а также первой церкви ордена сервитов «Montis Senarii», построенной ими под Флоренцией в 1245 г. (т. н. Basilica di Santa Maria Addolorata e San Filippo Benizi)44.
Необходимо также отметить, что течение Первой мировой вой ны оказало влияние на усиление мистического почитания Мадонны как «Patronae bonae mortis», т. е. «Покровительницы доброй смерти», основанного на вере в «сокрытие» Богородицы «для народа» при жизни Спасителя и в «раскрытии» Её богоматеринской миссии во время Его страданий и смерти45.
Убеждение в том, что «Она назначена… Христом Матерью всех людей» и «выполняет обязательство охраны их духовной жизни с материнской добро-той»46, свой ственное этому направлению в духе энциклики Пия X «Ad Diem illum», усилило догматическую перспективу последующих решений в области мариологии и способствовало объявлению Девы Марии «Матерью Церкви» на II Ватиканском Соборе.
В то же время характеристика покровительницы христианской кончины, присвоенная Ей позже, чем «Её пречистейшему супругу» Иосифу Обручни-ку47 — «защитнику от непогоды, покровителю христианского брака, сельчан, ремесленников и рядовых трудящихся, а также христианской безболезненной кончины — так называемой “счастливой” смерти»48, является ещё одним доказательством параллельного развития иосифологии и мариологии, не являющейся здесь первичной.
Совершенно очевидно, что окончание «Великой» войны, наступившее 11 ноября 1918 г. и вызвавшее закономерное желание «воздать благодарность… добрейшей Матери человеческого рода»49, стало ещё одним поводом для активизации богородичного благочестия, побудив Бенедикта XV к новым проявлениям «преданности Марии».
В результате, в 1919–1920 гг. присвоение епархиальным святилищам Мадонны общецерковного статуса малой базилики приобрело ещё большую интенсивность. Наиболее значимыми санктуариями из этой группы стали храмы Богоматери «Неустанной помощи» в Руане50 и Марии Ангельской в Риме51.
Помимо этого статус малой базилики был присвоен церкви Notre Dame де Бонсекюр в Нормандии (Франция)52, кафедральным соборам Марии- Царицы мира в Квебеке (Канада)53 и Santa Maria в Тортозе (митрополия Таррагоны в Испании)54, церкви Девы Марии Снежной в Альгеро- Боза на Сардинии55, флорентийскому храму Санта Мария Новелла56, церкви Вознесения Девы Марии в бенедиктинском аббатстве Этталь (Бавария)57, храму Рождества Богородицы в Cенглее (Мальта)58, кафедральным соборам Богоматери Света в Леоне (Мексика)59 и Благовещения Девы Марии в Санто Доминго (Доминиканская республика)60, базилике «De Mersed» в Кито (Эквадор)61, монастырской церкви Блаженной Девы Марии «De Monte Carmelo» в Ресифи (Бразилия)62, а также храмам Nuestra Sinora del Rosario de «Chiquinquira» в Маракайбо (Вене-суэла)63 и Notre Dame des Miracles в Мориаке (Франция)64.
Последним храмом, получившим привилегию малой базилики в понтификат Бенедикта XV, стала упоминавшаяся выше францисканская церковь Nuestra Sinora «de Aranzazu» — национальная святыня басков в городке Оньяте (Испания)65.
Также стоит отметить празднование 60-летия Лурдских явлений (11 февраля 1918 г.), на которое возлагалась большая надежда. В связи с тем, что «военное бедствие» помешало сделать это в срок, торжества были перенесены на 1919 г. Чтобы подчеркнуть их антивоенный статус и роль этого религиозного комплекса, сохранившегося в годы Первой мировой войны, папа обещал всем паломникам, «освежившимся Пресвятой Евхаристией», полное отпущение грехов «не только 11 февраля будущего года, но и в каждую годовщину других явлений Непорочной Девы»66, которых, как известно, было 18.
Кроме того, в 1920 г. в Лурде был установлен «Монумент мира» — памятник жертвам вой ны67, а епископу этого провинциальному города и его «преемникам по… должности» было даровано исключительное в таких случаях право ношения паллиума — литургического отличия кардиналов и глав крупнейших католических епархий68.
Анализируя эти критерии, с определённой долей уверенности можно говорить о внутренних параллелях между доктриной о непорочном зачатии Девы Марии, тесно связанной с Лурдом и ставшей сутью католического почитания Богородицы в XX в., и папским магистериумом о вой не, формировавшимся под влиянием мариологических приоритетов Бенедикта XV, уповавшего «на покровительство Непорочной Девы, Которую Мы желали бы повсеместно призывать как “Царицу мира”»69.
Проявление столь высокого статуса мариологии в годы правления этого папы также подтверждается одобрением им статуса ряда новых монашеских и светских ассоциаций, тесно связанных с почитанием Богоматери.
Так, в изучаемую нами эпоху священник Феликс Хесус Rougier (1859–1938) из «Общества Марии» основал конгрегацию «Миссионеров Св. Духа», направленную на воцерковление молодёжи и продвижение священнических призваний (декабрь 1914 г.). О приверженности её учредителя католическому богородичному благочестию свидетельствует не только его жизненное кредо «С Марией — всё, без Неё — ничего», но и содержание значительных по объёму духовных размышлений о Божией Матери70.
Другим примером стала деятельность миссионерской организации «Maryknoll» — американской конгрегации апостольской жизни71, а также иных ассоциаций, утверждённых в те же годы, изучение которых может представлять тему для отдельного исследования.
Заключение
Таким образом, религиозная оценка Первой мировой войны как наказания за дехристианизацию общественно-политической жизни выразилась не только в антивоенном характере папского магистериума Бенедикта XV, но и в появлении новых элементов почитания Девы Марии как «Царицы мира», отразившихся на характере западного богородичного богослужения. Это в очередной раз подчеркнуло статус мариологии как «духовнонравственного ориентира в эпоху социальной нестабильности» и общественных потрясений72.
Помимо утверждения новых богородичных праздников и внесения «мирных» добавлений в структуру Лоретанской литании ещё одним доказательством этих приоритетов в 7-летний понтификат Бенедикта XV стало присвоение общецерковного статуса малой базилики 28-ми святилищам Мадонны в разных странах мира. Это свидетельствует о сугубой активности данного папы в изучаемой сфере, так как за 25-летнее правление Льва XIII и 11-летнее папство Пия X (с 1878 по 1914 гг.) означенный статус получили лишь около 80 храмов.
Также стоит отметить, что приоритет, отдаваемый богородичному благочестию в период бедствий, способствовал постепенной демилитаризации сознания католической паствы, значительная часть которой сначала одобряла войну. В то же время, определённое войной усиление почитания Богоматери как посредницы в молитвах о мире и «Покровительницы доброй смерти» ещё более усилило чуждую православию марианохристианскую индивидуальность Католической Церкви, определённую учением о Непорочном зачатии Девы Марии.
Таким образом, Первая мировая война вполне может рассматриваться как один из катализаторов мариологических реформ в XX в., а также как фактор влияния на формирование базовых положений социальнополитической доктрины Римско-Католической Церкви до II Ватиканского Собора по вопросам мира.