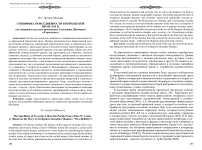Специфика повседневности в приходской прозе XXI в. (на материале рассказа протоиерея Александра Шантаева "В праздник")
Автор: Леонов Иван Сергеевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (59), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются особенности изображения повседневности в современной приходской прозе. Являясь разновидностью православной художественной литературы, занимающей определенную нишу в современном литературном процессе, приходская проза в большей степени ориентирована на знакомство читателя с повседневной жизнью сельских церковных общин как специфической социокультурной средой; она характеризуется типичным спектром сюжетных моделей, устойчивой системой образов, ориентацией на цикличность церковного календаря. При этом данный литературный феномен обладает своеобразной амбивалентностью: в нем выявляется как соотнесенность персонажей с повседневностью, так и тенденция к преодолению ими привычного, закономерного, узнаваемого. С опорой на позицию Б. Вальденфельса, указавшего на сосуществование в обыденной жизни процессов «оповседневнивания» и «преодоления повседневности», в статье анализируется рассказ протоиерея Александра Шантаева «В праздник». В результате было выявлено, что персонажи произведения находятся в ситуации постоянного преодоления границы привычной и «надповседневной» пространственно-временных парадигм. Этому способствует наличие в тексте богослужебного (литургического) хронотопа, а также мотивного комплекса путь / встреча / обряд. Преодоление повседневности раскрывается благодаря редукции мотива пути в финале рассказа, трансформации мотива встречи, наделение его дополнительным смысловым оттенком, связанным с богослужебно-обрядовым контекстом.
Повседневность, приходская проза, мотив пути, мотив встречи, богослужебно-обрядовый хронотоп, творчество протоиерея александра шантаева
Короткий адрес: https://sciup.org/149139049
IDR: 149139049 | DOI: 10.54770/20729316_2021_4_286
Текст научной статьи Специфика повседневности в приходской прозе XXI в. (на материале рассказа протоиерея Александра Шантаева "В праздник")
В современном гуманитарном знании особое значение приобретают исследования, связанные с анализом категории повседневности. Данная категория рассматривается с позиции различных наук: истории, социологии, философии, культурологи, лингвистики и других. Не является исключением и литературоведение, обращающееся к изучению специфики отражения картин повседневной жизни в литературно-художественных текстах.
В настоящей работе основное внимание будет уделено особенностям изображения повседневной реальности в российской приходской прозе XXI в. Данное литературное явление возникло и развивается в недрах современной православной художественной литературы, основные содержательные и художественные параметры которой раскрываются в исследованиях отечественных ученых и критиков.
В настоящее время литературоведы предлагают различные подходы к изучению православной художественной прозы. М.С. Краснякова разработала классификацию типов сюжета православной литературы сегодняшнего дня, включающую паломнический, монастырский и семейнобытовой [Краснякова 2016]. А.А. Моторина рассматривает православную прозу как одно из явлений кризисной эпохи, в которой по-особому изображается внутреннее состояние человека. При этом исследователь выявляет вполне закономерные параллели между историко-культурными реалиями рубежа XIX XX вв. и современностью, нашедшие отражения в литературных текстах духовных писателей [Моторина 2018]. Н.В. Пращерук акцентирует внимание на генезисе православной литературы, соотнося данное явление с феноменом древних учительных книг, патериков, а также наследием святителя Игнатия Брянчанинова. Кроме того, исследователь отмечает, что «Развитие православного направления в литературе связано и с процессами трансформации современной массовой культуры в целом» [Пращерук 2018, 6]. Поэтика творчества ведущих представителей современной православной прозы в контексте традиций геоцентрического миропонимания - предмет изучения С.С. Бойко [Бойко 2020].

Очевидно, что современная православная литература - явление многоаспектное в тематическом, жанровом и стилевом планах. В целях выявления и систематизации основных содержательных и художественных параметров данного литературного явления была предложена классификация, опирающаяся на принцип отбора и презентации литературного материала. В рамках данной классификации выявляются и обосновываются три разновидности православной художественной словесности XXI в.: миссионерская, приходская и монастырская проза [Леонов 2019].
Приходская проза является наименее исследованным явлением в рамках указанного литературного феномена. Однако же следует признать ее глубокое историко-культурное значение, этнографический потенциал и художественно-стилистическую уникальность. В отличие от миссионерской прозы, разрабатывающей сюжетно-композиционные модели мировоззренческой эволюции персонажа, данное литературное явление лишено установки на дидактизм, полярность оценок, изображение персонажей в парадигме неверие - кризис - вера. Если внутреннее состояние героя миссионерской прозы стремится к трансформации, подвержено изменениям, порой связанными с разрешением какой-либо болезненной ситуации (физический недуг, одиночество, смерть близких людей, крушение системы ценностей), то в произведениях приходской литературы на первый план выходит внешняя (порой кажущаяся) стабильность и предсказуемость. Основной материал, нашедший отражение в приходских очерках и рассказах, связан с жизнью сельской церковной общины как особой социокультурной средой. Система образов, как правило, включает священнослужителя, его ближайших помощников, членов прихода, товарищей из числа духовенства и мирян, а также случайных знакомых. День сельского священника складывается из событий богослужебного цикла, церковных обрядов, совершаемых в храме и на дому (для сельской действительности на первый план выходят обряды пред- и посмертного циклов: исповедь, причащение, соборование умирающих односельчан, отпевание, панихида), хозяйственных забот по ремонту храма, встреч с различными людьми и т.д. Подобная стабильность, предсказуемость, отчасти цикличность, связанная во многом с особенностями церковного календаря, определяет жизнь представителя сельского духовенства и позволяет говорить об особой значимости категории «повседневность» именно для приходской разновидности православной художественной словесности XXI в.
В первую очередь, необходимо определить, что следует понимать под термином «повседневность». Учеными предлагаются несколько подходов к пониманию этого явления, от соотнесения ее с категориями «синкретизма» и «универсальности», до признания за ней низшего, «эрозивного», «греховного» начала, противопоставленного истинной человеческой реальности. Анализ имеющихся подходов содержится в работе В.В. Корнева «Проблематизация категории “повседневность”» [Корнев 2008]. М.В. Капкан приводит следующие характеристики повседневности: «Повседневное - это рутинное, упорядоченное, привычное, типичное, субъективное,

близкое. Повседневность обязательна, неотменима для человека» [Капкан 2016, 8-9].
Важный тезис формулирует Бернхард Вальденфельс: «Обыденная жизнь не существует сама по себе, а возникает в результате процессов “оповседневнивания” (Veralltaglichung), которым противостоят процессы “преодолевания повседневности” (Entalltaglichung)» [Вальденфельс 1991, 40]. Ученый отмечает: «Повседневность - это дифференцирующее понятие, которое отделяет одно явление от другого. Границы и значения выделенных сфер изменяются в зависимости от места, времени, среды и культуры» [Вальденфельс 1991, 40]. Следуя данной логике, можно предположить, что среда современного российского сельского духовенства обладает определенным набором характеристик, позволяющим говорить об особой, свойственной только этой среде повседневности, которая по ряду параметров будет отличаться не только от повседневности светских людей, но, например, от жизни городской священнической корпорации, монашеской общины, представителей церковно-административных кругов.
Отдельно следует остановиться на мысли Б. Вальденфельса о сопоставлении повседневного как привычного, близкого и упорядоченного и неповседневного как явления, выходящего за границы привычного мира: «На границах хорошо знакомого мира нас подстерегает неизвестное и неожиданное, маня нас и пугая одновременно. Часто неизвестное является нам в тонком соединении внезапного и могущественного» [Вальденфельс 1991,42].
Если учесть, что жизнь любой православной общины, в первую очередь, определяет богослужебная (литургическая) практика, то уместно говорить о том, что приходская литература отражает выход человека за пределы повседневной реальности. Во время участия в богослужениях для члена церковной общины особое значение приобретают такие категории как «жизнь», «смерть», «время», «вечность», на которые указывает Б. Вальденфельс, размышляя о преодолении человеком границ повседневного и упорядоченного.
Писатель и этнограф протоиерей Александр Шантаев определяет жизнь православного прихода как неразрывное единство множества граней, среди которых выделяется богослужебно-литургическая доминанта, а также иные стороны, в большей степени соотносимые с повседневностью: «Церковный приход по своей оси представляет участие верных в совершении главнейшего и первейшего христианского Таинства - Евхаристии, а всеми прочими сторонами и гранями распахнут в актуальную действительность, открыт всему фронту истории и народной культуры» [Шантаев 2004, 11]. Этим, с точки зрения автора, определяется специфика сельской приходской среды как своеобразного сегмента социума, обладающего, с одной стороны, тенденцией к закрытости, ритуалистичности, особому восприятию пространственно-временных характеристик, а с другой, напротив, стремящегося к взаимодействию с широким спектром социокультурных явлений.
Таким образом, повседневность приходской жизни включает явления внебогослужебного характера, связанные с бытовыми и социальными аспектами жизни сельской общины: строительство и ремонт храма, семейная жизнь пастыря, обустройство его на новом месте служения, ежедневное общение с прихожанами или другими священнослужителями, проведение приходских собраний и т.д. Сюда же могут быть отнесены закрепленные в данном приходе традиции встречи праздников, особенности церковного этикета и многое другое, свойственное как всему церковному организму, так и определяющее жизнь каждой конкретной общины.
В настоящей работе предлагается рассмотреть специфику отражения категории «повседневность» в рассказе А. Шантаева «В праздник». Произведение может быть рассмотрено отдельно, а может в контексте повести «Соборование», частью которой является. Повесть включает три небольших рассказа: «В праздник», «Епархиальное собрание» и «Соборование» (заглавие финальной части совпадает с заглавием всего произведения). Рассказы объединены общей темой - жизнь сельских православных общин и духовенства в конце XX в. Особое значение в системе персонажей повести имеет образ протоиерея Трифона Пересветова, который становится примером искреннего священнослужителя, наделяется в некоторой степени чертами героя житийной литературы. Воспоминания об отце Трифоне - центральном персонаже рассказа «В праздник» - во многом определяют ход мыслей персонажей ее последующих частей. Обращаясь к художественному времени, отраженному в произведении, следует отметить, что между событиями первой и последующих глав проходит несколько десятилетий. Глава «В праздник» обращает читателя к приходской реальности позднего советского периода; в «Епархиальном собрании» и «Соборовании» раскрыты явления эпохи активного возрождения церковной жизни, которая приходится на последнее десятилетие XX в.
В данной работе основное внимание будет уделено характеру категории повседневность в рассказе «В праздник», в котором наблюдается тонкое сочетание явлений повседневности и противоположенных им тенденций. Выявить подобное можно на примере трех ключевых мотивов: пути, встречи и обряда.
В рассказе повествуется о посещении протоиереем Трифоном престарелой прихожанки Татьяны, лишенной возможности по причине возраста и болезней самостоятельно посещать храм, с целью исповеди и причащения женщины накануне праздника Рождества Христова. С учетом акцента на праздничный хронотоп встреча персонажей может восприниматься читателем в контексте мотива чуда, характерного для жанра святочного рассказа.
Мотив пути находит отражение в сюжетно-композиционной структуре рассказа, который включает следующие элементы: возвращение священника из храма домой - сборы к Татьяне - путь к дому прихожанки - исповедь и причащение женщины - появление священника в храме, начало праздничного богослужения.
Первые три звена обозначенной цепи способствуют раскрытию образа священника сугубо в рамках категории повседневности, в русле семейнобытового и социального контекстов. Отчасти детализировано показаны хлопоты отца Трифона по дому (кормил кур и собаку), спор с женой по поводу старого подрясника и примирение с ней, сборы к Татьяне. При этом обращает на себя внимание специфика внешней характеристики персонажа («Батюшка засопел еще громче», «Чмокнул супругу в голову», «Натянул выцветшую бордовую скуфью с заметной рыжиной» [Шантаев 2015, 86]), а также обращение к нему жены без использования принятых формул православного этикета («Куда это ты, Трифон Иванович?» [Шантаев 2015, 85]).
Путь священника к дому Татьяны также показан в повседневном контексте, включающем череду встреч, реплик, адресованных знакомым односельчанам, краткий разговор с соседом, заход в сельпо. В данном ключе автор передает обрывки фраз священника и односельчан, содержащие специфические для деревенской среды обращения, номинации, междометия («Здравствуй, Марья», «Ох, и то правда, батюшка родимый...» [Шантаев 2015, 85]).
Постепенный переход от повседневного к неповседневному становится очевиден в момент встречи пастыря с Татьяной. Следует заметить, что сама повседневность, в которой живет одинокая старая женщина, не соотносится с повседневностью большинства ее односельчан, с миром которых соприкасался отец Тихон во время своего краткого путешествия. Таким образом, ситуации пути и встречи в данном произведении оппозиционны по отношению друг ко другу. Эта разница становится заметной при первом же описании дома Татьяны: «...он дошагал до окраины села, направляясь к потемневшей и покосившейся от времени избушке, какую всякий раз рисуют в иллюстрациях к сказке о рыбаке и рыбке...» [Шантаев 2015, 88]. Обращение к сказочным образам не является здесь случайным. Очевидно, что автор пытается показать особый, выпадающий из круга повседневности мир, в котором живет Татьяна. Усиливает подобное впечатление и акцент на том, что дом старухи находится на окраине села, на отсутствие дороги к нему из-за нерасчищенных сугробов. Создается впечатление, что микромир пожилой женщины полностью слит с миром природы, а любые связи с привычным человечески пространством оказываются для него утраченными: «Рядом с домом, на чистом снегу, нарушенном только пунктирным росчерком какого-то юркого зверька <.. .> не было заметно ни одного человеческого следа» [Шантаев 2015, 89]).
Если в конце своего пути священник оказывается на границе реальной и сказочной повседневности (в данном случае наблюдается перекличка с произведением А. Шантаева «Бабка-живулька»), то в момент встречи с прихожанкой преодоление повседневности осуществляется уже согласно христианско-мировоззренческому вектору, более свойственному приходской литературе.
Встреча священника с Татьяной также проходит на условной границе
повседневного и неповседневного: среди прочих предметов, находящихся в комнате пожилой женщины, отец Трифон обращает внимание, что «На столе у постели теплился фитилек в плоской баночке» [Шантаев 2015, 90]. Это наблюдение способствует возникновению его внутреннего отклика: «А все же бабка ждала меня» [Шантаев 2015, 90]. Образ горящего фитилька приобретает в рассказе символического значение, становится связующей нитью между безрадостной повседневностью, в которой живет одинокая старуха, и близким ей церковно-литургическим топосом.
Мотив обряда (шире - богослужебно-обрядовый комплекс мотивов), специфичный для приходской прозы, в наибольшей степени раскрывает степень преодоления человеком границы повседневного и неповседневного. Во время совершения исповеди «Татьяна перечисляла обычные старушечьи грехи, а отец Трифон слушал ее, прикрыв глаза и не перебивая до ему одному ведомой меры (курсив наш - ИЛ?)...» [Шантаев 2015, 91]). Очевидно, что в православно-мировоззренческом контексте понятия «обычные старушечьи грехи» и «одному ведомая мера» противопоставлены друг другу. Первое в большей степени указывает на стереотипный и повторяющийся характер ситуации, второе связано со спецификой самого обряда и тем, как его воспринимают участники. В дальнейших эпизодах преодоление переход от повседневного к «надповседневному» становится еще более заметным. Об этом свидетельствует ряд дополнительных мотивов, свидетельствующих о внутренней трансформации пожилой женщины. Речь идет о мотивах молитвы («После ухода священника Татьяна долго стояла у икон, шепча вперемешку обрывки молитв, которые помнила, много и часто осеняя себя крестным знамением» [Шантаев 2015, 92]), преодоления физической слабости (находит силы зажечь дрова в печи), преодоления временных границ («В памяти всплывали бесконечно яркие и счастливые образы времен ее юности - синее ночное поле, кони, запряженные сани, пахнущее сухим цветом сено, разбросанное на церковном полу...» [Шантаев 2015, 92-93]). Очевидно, что после ухода священника Татьяна не сразу возвращается к привычному образу жизни; ее внутреннее состояние свидетельствует о преодолении ей границы повседневности.
Подлинное преодоление повседневности отцом Трифоном наблюдается в финале рассказа. Повествователь совершает достаточно резкий переход от изображения дома Татьяны к храмовому пространству, которое становится своеобразной точкой пересечения привычного и специфического, связанного с литургическим контекстом. Следует отметить, что если путь священника к дому Татьяны показан детализированно и соотнесен с целым рядом повседневных эпизодов, то стремительное появление священника в храме полностью выпадает из череды повседневных событий.
При этом храмовый локус также показан двойственно: он соединяет в себе два пространства - социальное и богослужебное. На социальное, повседневное указывает следующая зарисовка: «На другом конце села, на паперти, горит лампочка в жестяном колпаке. Двери церкви распахнуты настежь; напуская морозный пар, внутрь входят люди...» [Шантаев 2015,
-
93] . Богослужебный контекст, свидетельствующий о преодолении персонажем рамок повседневности, изменении пространственно-временного вектора, раскрывается в алтарном локусе: «В огненном алтаре, в клубах благовонного дыма отец Трифон, величественный и торжественный, похожий сейчас на библейского пророка, возглашает начало службы» [Шан-таев 2015, 93].
Подобная смена акцентов с повседневного на неповседневное становится возможным благодаря возникающей в финале произведения редукции мотива пути и усилению акцентов на мотиве обряда. Кроме того, наблюдается трансформация мотива встречи, который утрачивает социальное наполнение.
Таким образом, персонажи приходской литературы, в первую очередь священнослужители и их прихожане, сосуществуют в парадигме повседневность / неповседневностъ. При этом данные категории представлены как иерархично, так и в гармоничном единстве. Первое связано с тем, что богослужебно-обрядовый вектор существования православной церковной общины является доминантным и определяющим ее суть. С другой стороны, в приходской прозе, уделяющей большое внимание внебогослужебной стороне приходской действительности, повседневность не только не признается «низкой», «греховной», но воспринимается как необходимая часть жизни данного сегмента социума. Это приводит к мысли, что в процессе изучения современной православной прозы перспективным становится вопрос о разработке такого понятия как «приходская повседневность», а также выявление его содержательных и художественных параметров.