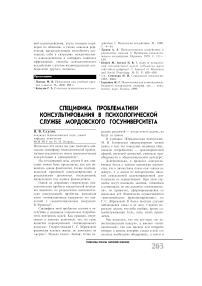Специфика проблематики консультирования в психологической службе Мордовского госуниверситета
Автор: Слугин В.В.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Гуманитарные проблемы современной психологии
Статья в выпуске: 1 (7), 2008 года.
Бесплатный доступ
Университет, психологическая консультация, мотивационный вакуум, мордовский государственный университет
Короткий адрес: https://sciup.org/14720472
IDR: 14720472
Текст статьи Специфика проблематики консультирования в психологической службе Мордовского госуниверситета
ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева
Несколько лет назад мы уже пытались описывать специфику психологической проблематики студентов на опыте психологических консультаций в университете1.
На сегодняшний день, спустя 6 лет, описание может быть продолжено, так как появилась новая фактология, также подтверждаемая практикой консультирования и результатами дипломных исследований, проведенных под нашим руководством.
Одной из острейших современных психологических проблем студенческой молодежи является, по результатам психологических консультаций, проблема, названная нами «мотивационным вакуумом» по аналогией с «экзистенциальным вакуумом» В. Франкла2.
Специфика этой проблемы состоит в отсутствии у индивида социальных потребностей, интересов, целей. Как правило, отсутствует и система ценностей, что, по сути, является первопричиной «мотивационного вакуума». Говоря словами Г. С. Абрамовой, физически человек живет, но личностно он «мертв»3. Модель такого «бытия» точно пе редана рекламой — когда нечего делать, то бегут за пивом.
В учебнике «Юридическая психология» М. И. Еникеевым сформулирован четкий вывод о том, что поведение индивида обусловлено потребностно — ориентировочной сферой, системой ценностей, степенью приобщенности к общечеловеческой культуре4.
Действительно, в процессе консультативных бесед с такими клиентами выясняется, что в личностном плане они «ничем не живут», т. е. ничем не интересуются, никакой осмысленной целенаправленной деятельности не осуществляют. При этом студенты могут посещать занятия, готовиться к семинарам, но это делается «автоматически», по привычке, сформировавшейся со школьных лет. Фактически осуществляется «автоматическое функционирование», по Г. С. Абрамовой. В более жестких случаях наблюдается отказ и от него. Студент перестает делать что-либо вообще, кроме самообслуживания. Есть, пить, спать приходится.
Мы полагаем, что это все-таки «не экзистенциальный вакуум», а именно «мотивационный», так как прежде чем потерять интерес к жизни, потерять смысл в ней, его сначала необходимо обнаружить, а затем и иметь. По нашему мнению, описанный В. Франклом экзистенциальный вакуум может являться следствием мотивационного. По аналогии с тем обстоятельством, что прежде чем в сознании индивида актуализируется потребность в самореализации, должна возникнуть самоактуализация как рефлексивный вопрос о собственных «потенциях», данных человеку от природы.
Как и любой психологический феномен, мотивационный вакуум, по нашему мнению, имеет эндогенную природу или социальную (экзогенную). «Внутренние» причины не могут быть предметом психологического анализа, но «внешние» предположить мы уже можем.
Бихевиористический подход к пониманию обусловленности поведения жестко связал стимул и реакцию. Деятельностный подход в отечественной психологии обосновал возможность формирования личности в деятельности. Экзистенциальная психология четко связала ценности, смыслы и бытие.
Мы выявили довольно часто встречающуюся взаимосвязь между «биографией» клиента и наличием мотивационного вакуума. Отсутствие устойчивых потребностей в какой-либо деятельности, интересов наблюдается часто в тех случаях, когда в школьном детстве ребенок не осуществлял какую-ибо внеучебную деятельность, т. е. не имел возможности осуществления авторской проектной деятельности, по К. Н. Поливановой, не являлся членом каких-либо формальных или неформальных детских коллективов5.
В условиях домашнего воспитания родителями не были сформированы интересы к чтению, не формировались (не подкреплялись) широкие познавательные интересы. С ребенком не общались, обращаясь к нему, его «воспитывали», требуя послушания. В результате, по словам клиентов, «я знала, что нужно учиться, посещать занятия, слушаться родителей». В итоге, ребенок должен был соответствовать ожиданиям взрослых, но не развивать авторство, субъектность собственной жизни.
Очень иллюстративен рассказ ученика-восьмиклассника, по мнению педагогов, «трудного подростка»: «Мои родители развелись, когда я был совсем маленький. Через год или два мама вышла замуж, и у них родился ребенок. Мама стала заниматься им, меня не обижали. Но мне кажется, что они от меня откупались, лишь бы я им не мешал. Мама вела себя при этом очень строго. Мной четко управляли — что я должен есть, что носить, во сколько ложится спать. Меня никто ни о чем не спрашивал. Но с другой стороны, отчим покупал все, что только появлялось нового из игрушек в продаже. Мне даже не надо было ни о чем мечтать. У меня у первого из класса, да и в школе появлялось что-то из вещей и игрушек. Я даже не знал — надо оно мне или нет. А теперь мне скучно. Я не знаю, что мне интересно, ничего особого не хочу, учиться тоже не хочется, да и не интересно».
При всей критичности к идеологии советского периода отечественной истории дети всех возрастов были включены пусть в идеологическую, но все-таки культуру. Существовала целая педагогическая технология воспитания через коллектив. В самой воспитательной идеологии была заложена задача воспитания коллективиста, строителя коммунизма. Невозможно было представить себе ситуации, когда бы молодой человек из благополучной семьи мог чувствовать себя выброшенным «за борт» жизни. Четко было, пусть с лозунговыми, но ценностями и смыслами. И это была определенная культурная повседневная среда — «раньше думай о Родине, а потом о себе», «жила бы страна родная и нету других забот» и т. д.
Только к середине 90-х гг. XX в. в России стали понятны слова В. Франкла о том, чтобы найти смысл в бессмысленном окружающем мире. Чрезвычайно актуальными оказались мысли К. Хорни о невротизации личности. Ее статья, по нашему мнению, чрезвычайно актуальна и современна, хотя и издана в 1907 г. в Германии. Все сказанное ею теперь уже более 100 лет назад точно описывает реалии современной «провинциальной» России. Три базовых личностных конфликта, описанных ею, по нашим наблюдениям, являются основными факторами невротизации молодежи.
Относящимися в большей мере к мотивационному вакууму являются два фактора из трех. Прежде всего это конфликт между «задаваемым» рекламной апологетикой уровнем потребления, фактически формированием потребности в определенно высоком уровне потребления и невозможностью для большинства населения его реализовать. «По экономическим причинам в нашей культуре потребности постоянно стимулируются такими средствами, как реклама, ’’демонстрация образцов потребительства”, идеал ”быть на одном уровне с Джинсами”. Однако для огромного большинства реальное осуществление этих потребностей жестко ограничено»7. На ум приходит аналогия печального эксперимента с крысами, одна группа которых просто голодала и не видела пищи и воды, а другая видела, но не могла иметь. Выжили, естественно, первые.
Социальная психология утверждает, что человеку плохо не тогда, когда у него чего-то нет, а когда у него нет по сравнению с другими.
В настоящее время идет интенсивное формирование всеми доступными средствами масс-медиа типа личности-потребителя (по Э. Фромму). Мы часто видим в консультировании, что высокий уровень материальной обеспеченности — идеальная и главная цель молодежи. Отсюда логическая цепочка алгоритма возникновения «мотивационного вакуума» — «не могу это иметь, так тогда ничего не хочу (защита по 3. Фрейду), вплоть до «и жить не хочу».
Еще один конфликт (противоречие, по К. Хорни) «между утверждаемой свободой человека и всеми его фактическими ограничениями. Общество говорит его члену, что он свободен, независим, может строить свою жизнь в соответствии со своей свободной волей; «великая игра жизни» открыта для него, и он может получить то, что хочет, если он деятельностен и энергичен. В действительности для большинства людей все эти возможности ограничены. Шутливое выражение о том, что родителей не выбирают, можно распространить на жизнь в целом — на выбор работы, форм отдыха, друга. В итоге человек колеблется между ощущением безграничной власти в определении собственной судьбы и ощущением полнейшей беспомощности»6.
Нам приходится отмечать то обстоятельство, что часто встречаются случаи трансформации у молодежи чувства свободы в чувство «свободен от всего в том смысле, что ты здесь никому не нужен».
Наш анализ ярко иллюстриует фрагмент доклада главного врача ГУ3 «Республиканский наркологический диспансер» А. В. Иванова: «В широком социально-психологическом плане высоко значимо, что прежние идеологические основы, нормативные ценностные ориентации и социальнопсихологические стереотипы поведения оказываются разрушенными, а новые еще не сформированы, и выработка их происходит хаотично и бессистемно. Это явление обусловило в значительной степени ’’разрыв поколений”: нормы и догмы ”отцов“ и, особенно ”дедов“ оказались отвергнутыми молодежью — с отказом от опыта ’’предков” и их сегодняшнего поведения как примера для подражания. Подростки утрачивают ощущение смысла происходящего и не имеют при этом необходимых знаний и жизненных навыков, которые позволили бы им сохранить свою индивидуальность и сформировать эффективный и здоровый жизненный стиль. В то же время практическое отсутствие представлений о современных социально-адаптивных поведенческих и коммуникативных стратегиях у взрослой части населения не позволяет ей оказывать на детей необходимое воспитательное воздействие, обеспечивать успешную психологическую и социальную поддержку их. Дети и подростки в связи с утраченными связями со старшим поколением оказываются одинокими и психологически беспомощными перед наркотической экспансией. Поколения ’’развел” и очередной культурно-технологический ”скачок“, когда ”дети“ стремятся к быстрому освоению новой сложной и модной техники, ранее недоступной, а сегодня не принимаемой ’’родителями”. Все это приводит к массовой деформации семей, отчуждению их членов друг от друга.
Не менее важен другой социальный феномен — наблюдающийся отказ значительной части молодежи от собственных усилий в направлении личного соответствия резко возросшим требованиям к обеспечению достаточно высокого уровня жизни — за счет интенсивной учебы, работы, активной конкуренции за хорошо оплачиваемое место в сфере производства, торговли, финансов. Такую позицию сегодня могут занимать как дети лиц с высоким доходом (паразитирующая на родителях ’’золотая молодежь”), так и представители низших, бедных слоев населения. Происходит дезактуализация ранее нормативного социального поведения, выступает принятие краевых, маргинальных его форм с поведенческой псевдоадаптацией на их уровне. Труд оказывается уже необязательным средством обеспечения существования; им становится спекуляция, криминальные формы ”бизнеса“».
Список литературы Специфика проблематики консультирования в психологической службе Мордовского госуниверситета
- Ценостный конфликт как сущность современной Российской психологической проблематики//Гуманитарий: научный ежегодник Историко-социологического института МГУ им. Н. П. Огарева. Саранск, 2003. С. 159-160.
- Франкл В. Доктор и душа: пер. с англ. Спб., 1997.
- Абрамова Г. С. Практическая психология. М., 1977.
- Еникеев М. И. Юридическая психология. СПб., 2004. С. 52-60.
- Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов: учеб. пособие для студ. высших пед. учеб. заведений. М., 2000. С. 75-80.
- Райгородский Д. Я. Психология личности. Т. 1. Хрестоматия. Самара, 2000. С. 179-190.
- Хорни К. Невротическая личность. Психология личности. Т. 1. Хрестоматия/под ред. Райгородского Д. Я. Самара, 2000. С. 179-190.