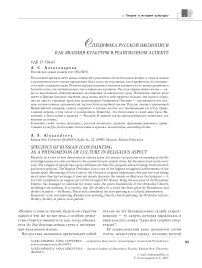Специфика русской иконописи как явления культуры в религиозном аспекте
Автор: Александрова Анна Сергеевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (66), 2015 года.
Бесплатный доступ
В последнее время в свете новых открытий в различных областях науки вопрос о смысле жизни и религиозности не только продолжает быть столь же насущным, как в древности, но становится острее с каждым годом. Религия народа оказывает большое влияние на его жизнь, развитие и благополучие, как материальное, так и морально-духовное. Русская православная икона - одно из высочайших общепризнанных достижений человеческого духа. Почитание святых икон имеет в Церкви большое значение, ведь икона несёт в себе намного больше, чем просто образ, она не просто украшает храм или иллюстрирует Священное Писание - она является его полным соответствием, органической частью богослужебной жизни. Россия, являясь преемницей Византийской империи, сумела сохранить в течение долгих лет заповеданные ей устои православной церкви, в том числе и в иконописи. Известно, что богословие в слове дано было Византией, а богословие в красках - Россией. В данной статье рассматривается иконопись как явление культуры.
Икона, иконопись, русская иконопись, церковь, церковная живопись, православная культура, богословие, богословие в красках, иконописцы, иконоборчество
Короткий адрес: https://sciup.org/144160938
IDR: 144160938 | УДК: 27-526.62
Текст научной статьи Специфика русской иконописи как явления культуры в религиозном аспекте
«вопрос о смысле жизни, будучи по существу одним и тем же во все века, с особою резкостью ставится именно в те дни, когда обнажается до дна бессмысленная суета и нестерпимая мука нашей жизни.
вся русская иконопись представляет собой
-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
алек сан д ро ва ан на сер Ге ев на но во го уни вер си те та (рос ноу) aleKSanDRova anna SeRGeevna (Rosnou)
отклик на эту беспредельную скорбь существования — ту самую, которая выразилась в евангельских словах: “душа моя скорбит смер-тель но”.
её символический язык непонятен сытой плоти, недоступен сердцу, полному мечтой
— ас пи рант ка фа куль те та гу ма ни тар ных тех но ло гий рос сий ско го
— doctoral student of humanities Faculty, Russian new university
о материальном благополучии. но он становится жизнью, когда рушится эта мечта и у людей разверзается бездна под ногами. тогда нам нужно чувствовать незыблемую точку опоры над бездной: нам необходимо ощущать это недвижное спокойствие святыни над нашими страданием и скорбью, а радостное виденье собора всей твари над кровавым хаосом нашего существования становится нашим хлебом насущным. нам нужно достоверно знать, что зверь не есть всё во всём мире, что над его царством есть иной закон жизни, ко то рый вос тор же ст ву ет.
вот почему в эти скорбные дни оживают те древние краски, в которых когда-то наши предки воплотили вечное содержание. Мы снова чувствуем в себе ту силу, которая в старину выпирала из земли златоверхние храмы и зажигала огненные языки над пленным космосом. действенность этой силы в древней руси объясняется именно тем, что у нас в старину “дни тяжких испытаний” были общим правилом, а дни благополучия — сравнительно редким исключением. тогда опасность “раствориться в хаосе”, то есть, попросту говоря, быть съеденным живьём соседями, была для русского народа повседневной и еже-час ной.
и вот теперь, после многих веков, хаос опять стучится в наши двери. опасность для россии и для всего мира — тем больше, что современный хаос осложнён и даже как бы освещён культурой. Биологизм сознательно возводится в принцип, утверждается как то, что должно господствовать в мире. Это — уже нечто большее, чем жизнь по образу звериному: здесь мы имеем прямое поклонение этому образу, принципиальное подавление в себе человеколюбия и жалости ради него. торжество такого образа мыслей в мире сулит человечеству нечто гораздо худшее, чем татарщина. Это — неслыханное от начала мира порабощение духа, озверение, возведённое в принцип и систему, отречение от всего того человечного, что доселе было и есть в человеческой культуре. речь идёт не только о сохранении нашей цельности и независимости, а о спасении самого смысла человеческой жизни против надвигающегося хаоса и бессмыслицы. та духовная борьба, которую нам придётся ещё выдержать, неизмеримо важнее и труднее. человек не может оставаться только человеком: он должен или подняться над собой, или упасть в бездну, вырасти или в Бога, или в зверя. в настоящий исторический момент человечество стоит на перепутье» [9].
так говорил князь е. н. трубецкой в публичном выступлении в 1916 году, но всё вышесказанное как нельзя точнее описывает культурную и религиозную ситуацию, сложившуюся в россии спустя почти сто лет. Это ещё раз подчёркивает актуальность незыблемых православных истин, церковного уклада с точки зрения не только религии, но и культуры русского народа.
икона представляет собой интереснейший объект для изучения, являясь одним из важнейших элементов православной церкви.
русская православная икона — одно из высочайших общепризнанных достижений чело-ве че ско го ду ха.
пра во слав ное хри сти ан ст во пред став лено во всём мире бесценными сокровищами не только в области богослужения и святоотеческих трудов, но и в той области искусства церкви, которое рассматривается в данном исследовании, — иконописи. почитание святых икон имеет в церкви большое значение, ведь икона несёт в себе намного больше, чем просто образ, она не просто украшает храм или иллюстрирует священное писание — она является его полным соответствием, органической частью богослужебной жизни.
церковная живопись, или иконопись, внушаемая духом веры христианской и возникшая во времена апостольские, достойна внимания и исследования не по одной только художественной части, но и по внутренней её связи с догматами, таинствами и священнодействиями православной восточной церкви, по влиянию на религиозную жизнь русского народа. под её священным знаменем много веков идёт русская народность по пути своего умственного и нравственного образования.
«ико но пись, — го во рит св. Гри го рий нисский, — есть грамота для неграмотных ». в этом смысле святые иконы суть книги, написанные, вместо букв, липами и вещами; в них неграмотные усматривают то, чему должны по вере следовать; из них они учатся. для такой-то цели vII вселенский собор подтвердил: иметь в храмах лики спасителя, Божией Матери и других святых. сего предписания неуклонно держится наша отечествен ная цер ковь.
как и Богодухновенное учение церкви, предание иконографическое также обретает свой полный смысл и тесную связь с другими свидетельствами веры (писанием, догматами, ли-тур ги ей) в пре да нии ду ха свя то го. ико ны, так же как и догматические определения, могут быть сближены со священным писанием и получать то же почитание, потому что иконография показывает в красках то, о чём в буквах письма благовествуют слова. догматы обращены к уму, будучи умопостигаемыми выражениями той реальности, которая превы-ша ет на ше ра зу ме ние.
иконы воздействуют на наше сознание через внешние чувства, показывая нам ту же сверхчувственную реальность. однако элемент умопостижения не чужд иконографии: смотря на икону, мы открываем в ней «логическую» струк ту ру, не кое дог ма ти че ское со держание, определившее её композицию.
икона изображает свет и не изображает тьму, тела не отбрасывают тени, в ней нет ночи, а вечно длится день. в традиционной иконе невозможен эффект светотени, возникающий вследствие внешнего источника света, при котором одна сторона становится освещённой, а противоположная — остаётся в тени, ибо божественный (нетварный) свет освещает всё. святые изображаются на иконе также с точки зрения вечности. небожители лишены недостатков душевных и телесных, они одухотворены. но это движение от материи к духу никогда не приводило к исчезновению телесного начала в иконе, к абстракции, в которой символы и знаки обходятся без антропоморфных форм. Это означало бы выход за пределы хри сто ло гии, раз во п ло ще ние. пра во слав ная икона стоит на фундаменте веры в Боговопло-щение, которое не только не отрицает плоть, но освящает её и придаёт ей новое, более высокое значение. христианство нашло поистине царский путь между двумя крайностями — культом тела и отвержением его — в освящении и преображении плоти.
в иконописных изображениях черты, которые проводят резкую грань между человекообразными языческими богами и православными святыми, заключаются, во-первых, в аскетической неотмирности иконописных ликов, во-вторых, в их подчинении храмовому архитектурному, соборному целому и, наконец, в-третьих, в том специфическом горении ко кресту, которое составляет яркую особенность всей нашей церковной архитектуры и ико но пи си.
если «рисование есть вторая грамотность» (как сказал астерий, церковный писатель Iv ве ка), то ико но пи са ние есть, мож но сказать, второе исповедание веры, сопровождаемое передачей её истины не звуком слов и буквами, а наглядным выражением, доступным как образованному, так и неграмотному, для которого иконы и суть единственные книги. таким образом, иконопись — средний памятник между писанием и преданием.
по сло вам е. н. тру бец ко го, в ико но пи си отражается та борьба двух миров и двух ми-рочувствий, которая наполняет собою всю исто рию че ло ве че ст ва.
икона — это священный образ, в котором находит отражение телесное и духовное, человеческое и божественное, видимое и невидимое. икона даёт нам возможность приобщиться к опыту церкви, прежде всего к опыту святых отцов, помогает понять ту весть, что несёт миру православие, воспринять тот взгляд на мир, который присущ христианскому миросозерцанию в целом.
наше иконописное искусство, всегда глубоко символическое, когда приходится изображать потустороннее, проникается каким-то своеобразным священным реализмом в изображении этой сбывающейся в посюсторон- ней любви радости [8].
исследователи иконы много писали об обратной перспективе, о том свое образно м построении иконного пространства, в котором нет единой точки горизонта, где все линии сходятся, а предметы не уменьшаются, но увеличиваются по мере удаления от нашего глаза. название этого приёма условно и возникло по аналогии с прямой перспективой, на основе которой строится реалистическая картина. единственной точкой пересечения линий иконы — геометрических и смысловых — может быть та, в которой находится молящийся: пространство иконы как бы раскрывается вокруг него, вовлекая его внутрь иконного мира, и поэтому все предметы кажутся развёрнутыми, они видны с трёх, а то и с четырёх сто рон.
источники нашей иконописи — история и предание. содержание своё она заимствует из священного писания, из деяний св. соборов, из отеческих книг и житейников. дабы избежать вымысла и разрыва между образом и первообразом, иконописцы пишут с древних икон или пользуются пособиями. тради- ционность в иконописи — основное условие для иконописания. писание по старым образцам — существо иконографии и даёт ей право на су ще ст во ва ние.
таким образом, в обозрении святых икон в жизни народной открывается ближайшее, догматическое их отношение к православию, к церкви, к государству, селению и дому; вместе с тем осязательное влияние на дух народа, на дела общественные, военные, гражданские и семейные. неиссякаемым источником тому служат вера и благочестие, сближающие поклоняющегося с поклоняемым и земное с небесным. именно сочетание совершенной неподвижности тела и духовного смысла очей, часто повторяющееся в высших созданиях нашей иконописи, производит потрясающее впечатление. неподвижность в иконах усвоена лишь тем изображениям, где не только плоть, но и самое естество человеческое приведено к молчанию, где оно живёт уже не собственною, а надчеловеческою жизнью. разумеется, это состояние выражает собою не прекращение жизни, а как раз наоборот, высшее её напряжение и силу [9].
Список литературы Специфика русской иконописи как явления культуры в религиозном аспекте
- Андреев Н.О. О «деле дьяка Висковатого» // Иконы великой России / Евгений Трубецкой, Сергий Булгаков, Николай Покровский. 2-е доп. изд. Москва: Эксмо, 2011. 415 с.
- Василий Великий, архиепископ Кесарийский. Беседа 19-я: На день святых четыредесяти мучеников // Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Ч. 1-7. Москва: Типография Августа Семена при Императорской Медико-хирургической академии, 1845-1848. Ч. 4.
- Иоанн Дамаскин, преподобный. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или изображения: пер. с греч. / [предисл.А. Бронзова]. Репринт. изд. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра: РФМ, 1993. 7 с.
- Лосский В.Н. Предание и предания // Журнал Московской Патриархии. 1970. № 4. 76 с.
- Мартыновский Анатолий, преосвящ. Об иконописании // Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв.: антология / сост., общ. ред. и предисл. Н.К. Гаврюшина. Москва: Прогресс-Культура, 1993. 400 с.