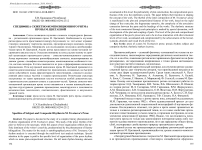Специфика сюжетно-композиционного ритма прозы М. Цветаевой
Автор: Канищева Елена Валерьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (47), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению сложного литературного феномена - ритмической организации прозы М. Цветаевой. Необходимость изучения ритма прозы поэта представляется автору безусловной, т.к. этот аспект отражает стилевую доминанту творчества писателя, предопределенную явлением литературного билингвизма. Материалом для исследования послужила автобиографическая проза М. Цветаевой. Анализ ритма представлен на основе методики поуровневого анализа текста. Отдельное внимание в статье уделено одному из уровней организации прозаического ритма - сюжетно-композиционного строения. Автор перечисляет основные ритмообразующие элементы, акцентированные на данном уровне: специфика сюжетостроения, композиционные особенности текста, система повторов. В статье выявляется их роль в формировании концепции произведения. Ритм внутренней композиции прозы М. Цветаевой проявляется в сюжетно-композиционных особенностях произведения, основанных на быстрой смене событийного плана, фрагментарности повествования, сложности ассоциативной связи между частями и главами произведений. Ритмическая структура построенных по таким принципам текстов отличается особой динамичностью, стремительностью развития сюжета и сцепления частей. Уровень сюжетно-композиционной организации прозы поэта оказывается в тесном взаимодействии с другими структурными уровнями произведения, акцентируются и дополняются возможностями лексического, синтаксического, фонетического и визуального уровней текста.
Проза поэта, проза м. цветаевой, ритм прозы, сюжетно-композиционный ритм, ритмические маркеры в прозе
Короткий адрес: https://sciup.org/149127101
IDR: 149127101 | DOI: 10.24411/2072-9316-2018-00073
Текст научной статьи Специфика сюжетно-композиционного ритма прозы М. Цветаевой
Прозаический ритм - сложный феномен, основанный не только на последовательном, закономерном чередовании различных компонентов текста, но и на сбое, появлении ритмически заряженных фрагментов на фоне размеренных, на чередовании напряженных с точки зрения интонационного рисунка частей и плавных, мелодичных.
Специфический выразительный материал для изучения ритма художественной прозы дает творчество авторов, чьи произведения находятся на стыке двух форм художественной речи. Среди таких писателей А. Пушкин, А. Вельтман, И. Тургенев, А. Ахматова, К. Бальмонт, А. Белый, А. Блок, С. Есенин, Г. Иванов, А. Мариенгоф, Ф. Сологуб, а также М. Цветаева. Основу исследования прозаического ритма составляют работы по теории прозы: Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпы, В.Б. Шкловского, В. Шмида; по теории ритма: М.Л. Гаспарова, М.М. Гиршмана, В.М. Жирмунского, А.М. Пешковского, Б.В. Томашевского, О.И. Федотова, Н.М. Фортунатова, А.В. Чичерина; по методологии анализа ритма прозы: А. Белого, С.И. Кор-милова, Л.А. Новикова, Ю.Б. Орлицкого, Т.Ф. Семьян, Н.А. Фатеевой.
Огромный вклад в науку о ритме прозы внес донецкий исследователь М.М. Гиршман, чья книга 1982 г. «Ритм художественной прозы» до сего дня является единственной теоретической монографией об изучаемом феномене. Исследователь отмечает, что ритм в прозе может проявиться не только в словесно-ритмизированной ткани, но и в иных свойствах прозаического повествования: в смене сюжета, в гармонии построения, во всех элементах композиции [Гиршман 1982]. Важно, что исследователь понимает ритм прозы не только как закономерное повторение каких-либо элементов художественного произведения, но и как нарушение общего фона, сбой, подчеркивает двойственную природу прозаического ритма.
В данной статье мы проанализируем специфику ритмической организации прозы М. Цветаевой, проявляющейся на уровне сюжетно-композиционной организации произведения.
«Литературный билингвизм» творчества М. Цветаевой предопределил в ее прозаических произведениях отчетливую, специфически оформлен- ную ритмическую организацию, выражающую индивидуальные особенности художественного мира поэта. Проза М. Цветаевой динамична, ассоциативна, в ней чередуются фрагменты с четким, чеканным ритмом и плавные, ритмически размеренные отрывки, характеризующиеся интонацией размышления.
Об особом характере организации сюжета в прозе М. Цветаевой писал И. Бродский, подчеркивая, что поэт «не слишком заботится об убедительности своей прозаической речи, <.. > повествование ее, в строгом смысле, бессюжетно и держится, главным образом, энергией монолога» [Бродский 1998, 61]. Специфику сюжетостроения прозы поэта анализирует И.В. Ку-дрова, отмечая, что «читателю, ищущему в прозе фабульного развития, цветаевская проза должна быть попросту скучна» [Кудрова, 2003, 238].
В автобиографической прозе М. Цветаевой («Повесть о Сонечке», «Жених», «Лавровый венок», «Грабеж», «Ночевка в коммуне» и др.) сюжетная линия оказывается значительно разреженной. События следуют друг за другом в соответствии с хронологическим развитием реальных происшествий жизни поэта, но каждый фрагмент повествования сопровождается эмоциональными лирическими комментариями, выражающими движение чувств автора, что, безусловно, влияет на темп сюжетного движения.
Многие прозаические произведения М. Цветаевой, которые исследователи, как правило, относят к жанру эссе или называют воспоминаниями о современниках, не имеют четкой сюжетной линии и таких традиционных для прозаического текста композиционных частей, как экспозиция, завязка, кульминация, развязка и т.п. Текст строится на монтажном, ассоциативном соединении воспоминаний, лирических зарисовок. Данная особенность характерна для таких произведений, как «Письмо к Амазонке», «Флорентийские ночи», «О любви», отличающихся бесфабульностью.
Например, каждое письмо «эпистолярного романа» (обозначение жанра - А. Саакянц, Л. Мнухин) «Флорентийские ночи» представляет собой лирические зарисовки, которые объединены жанровым обозначением и единством адресата. При их чтении важно уловить не логику изложения, а то чувство, которое испытывал автор в момент создания произведения.
Композиционные части прозаических произведений М. Цветаевой выделяются в зависимости от развития лирического чувства, нагнетания определенного эмоционального состояния, изменения ритмической аранжировки, но не от изменения сюжетных действий и коллизий.
Например, в «Письме к Амазонке» роль завязки выполняет первое предложение, которое по законам эпистолярного жанра начинается с обращения, хотя и скрытого: «Вашу книгу я прочла». Постепенно разговор с конкретным собеседником перерождается в размышления, в спор с самим собой, и более - в обращение к читателю, к широкому кругу людей. Не случайно на первых же страницах «Письма» автор отмечает: «Выслушайте меня. Вам не надо отвечать мне - только услышать» [Цветаева 1997-1998, V, кн. 2, 163].
В произведении «Герой труда» функции экспозиции выполняет I гла- ва первой части, глава описательная, рассказывающая об особенностях восприятия стихотворений В. Брюсова, характеризующаяся размеренным, плавным ритмом повествования. II - V главы могут считаться завязкой, в них описаны истории заочного и, затем, очного знакомства поэтов, зарождение непонимания между ними. В качестве кульминации можно рассматривать VI, заключительную, главу первой части, имеющую название «Премированный щенок». В этой части максимально сгущена ритмическая структура произведения, сконцентрированы мотивы, образные сравнения, относящиеся к В. Брюсову и характеризующие отношения двух поэтов: признание творчества М. Цветаевой В. Брюсовым, одобрение старшего поэта, желание соприкоснуться руками и невозможность ни одного рукопожатия, саркастическое отношение молодого поэта как знамение поклонения, благоговения перед гением, сравнение В. Брюсова с волком.
Вторая часть воспоминания о Брюсове целиком может считаться развязкой, повествующей об истории дальнейших взаимоотношений поэтов. Ритмическая структура данного фрагмента более плавная, спокойная.
Таким образом, концептуально значимым для развития повествования становятся не сюжетные перипетии, а эмоциональный модус описанного, выраженный в ритмической структуре. Подобный способ композиционного оформления текста роднит прозаический текст с поэтическим, указывая на синкретизм мышления писателя.
Вся проза М. Цветаевой пронизана лирическими зарисовками, воспоминаниями, размышлениями. Неизменно в каждом произведении поэта чередуются динамические, сюжетные и лирические, бессюжетные фрагменты. При этом происходит ритмическое чередование различных по эмоциональному тону частей.
Сюжетные части более динамичны, их ритм четкий, прерывистый, реализующийся во включении диалогов, особой синтаксической структуре, парцеллированных конструкциях. Сюжетные части отличаются чеканным ритмом также за счет сокращения объема колонов, что меняет ритмическое движение текста:
«“Когда ее подруги выходили замуж, она оплакивала их в свадебных песнях” - так я впервые услышала о той, первой, от своего первого взрослого друга, переводчика Гераклита - рекшего: “В начале был огонь”.
Брак - огонь - подруга - песня - было - будет - будет - будет» («История одного освящения») [Цветаева 1997-1998, IV, кн. 1, 131].
В цитируемом примере резко сокращается слоговой объем колонов до одного - двух слогов, что акцентирует изменение ритмической структуры текста, маркирует смену эмоционального фона повествования.
Лирические части, напротив, обладают размеренным ритмом, усложнением логики размышления. Описательные фрагменты характеризуются большим объемом колонов; в данных частях преобладают сложные предложения, с большими рядами однородных членов, с появлением лексиче- ских, фразовых и синтаксических повторов, аналога стихотворного переноса, яркой изобразительно-выразительной основой. Такие фрагменты текста в силу лирической, эмоциональной напряженности ассоциативно близки стихотворной традиции.
Например, в «Истории одного посвящения» в одной главе чередуются фрагменты с различной ритмической природой, изменение ритмического рисунка становится маркером лирических размышлений:
«- Передохнем? А то - пожар!
- Пусть дом сгорит - вашим свадебным факелом!
Дом, знаменитый в русской эмиграции (Avenue de la Gare, все эмигрантские казармы, по ночам светящиеся, как бал или больница, каждое окно своей бессонницей, дом, со всех семи этажей которого позднему прохожему на плечи, - как ливень - музыка, из каждого окна своя. Vous ne dormez done jamais? (Вы что же, так никогда и не спите?) - струнная - духовая - хоровая - рояльная - сопранная - младенческая - русская разноголосица тоски» [Цветаева 1997-1998, IV, кн. 1, 136].
Сюжетно-композиционный ритм в прозе М. Цветаевой проявляется в описании повторяющихся ситуаций, аналогичных действий или эмоциональных состояний. Например, в эссе «Герой труда» ритмический рисунок акцентируется за счет ощущения соотносимости диалогов в эпизоде знакомства двух поэтесс, который сближает героинь:
«“Вы Марина Цветаева?” - “Да”. - “Вы так и живете без света?” - “Да”. -“Почему же вы не велите починить?” - “Не умею”. - “Чинить или велеть?” - “Ни того, ни другого”. - “Что же вы делаете по ночам?” - “Жду”. - “Когда зажжется?” - “Когда большевики уйдут”. - “Они не уйдут никогда”. - “Никогда”.
В комнате легкий взрыв двойного смеха. <.. >
“X я Адалис. Вы обо мне слыхали?” - “Нет”. - “Вся Москва знает”. - “Я всей Москвы не знаю”. - “Адалис, с которой - которая... Мне посвящены все последние стихи Валерия Яковлевича. Вы ведь его очень не любите?” - “Как он меня”. - “Он вас не выносит”. - “Это мне нравится”. - “И мне. Я вам бесконечно благодарна за то, что вы ему никогда не нравились”. - “Никогда”.
Новый смех» [Цветаева 1997-1998, IV, кн. 1, 36].
Лексический повтор, заканчивающий оба фрагмента диалога, создает ощущение повторяемости, а следующий за ним повтор ситуации - появление легкого смеха - усиливает ритмичность фрагмента.
Ритмическая структура прозы акцентирована также дистантными повторами сюжетных фрагментов: это композиционный прием, позволяющий «выделить ряд ключевых тем, выразить наиболее важные авторские идеи» [Семьян 1997, 11]. Например, данный прием М. Цветаева использует в воспоминаниях о Р.-М. Рильке «Твоя смерть». В произведении объединены три истории о смерти различных людей: Р.-М. Рильке, француженки-учительницы, соседского мальчика Вани. Отправной точкой для размышления становится гибель одного из самых близких автору человека, Р.-М. Рильке, с ним М. Цветаева ведет диалог, обращения к погибшему появляются рефреном во всем произведении, в финале каждой части:
«Lebenstrieb (нем. - жизненный инстинкт) смерти, Райнер, думал об этом?», «Mlle Jeanne Robert, так и не дождавшись новых перчаток -Райнер-Мария Рильке, доволен - Жанною Робер?»,
«Хочется, чтобы все ушли, чтобы тут же, над ним, рассказать им двум о тебе, Райнер, о всем, что знаю через тебя»,
«И все-таки, Райнер, несмотря на великолепие твоей смерти, твоими справа- и слева-коечными соседями во мне есть и пребудут:
Mlle Jeanne Robert, учительница французского языка, и Ваня Гучков, кем-то обиженный русский мальчик, и - отметая фамилии и даже первые буквы их - просто Жанна - (вся та Франция) и
Ваня - (вся Россия).
Ни имен, предельных, ни соседств, совершенных, я не выбирала»
[Цветаева 1997-1998, V, кн. 1, 193, 198, 200, 205].
Таким образом, три различных сюжета объединяются в одно произведение, подчеркивая мысль об общности горя, связанного со смертью любого человека. Композиционный ритм произведения позволяет скрепить части в единое целое, соотнести различные эпизоды. Таким образом, не только событийные ряды имеют, по словам В.Е. Хализева, «конструктивное значение: они скрепляют воедино, как бы цементируют изображаемое» [Хализев 2004, 150], эту же функцию выполняет и ритмическая структура прозаического текста.
Полнозвучно данная идея обозначается в последней фразе цитируемого произведения, в которой в сознании автора соединяются все три смерти в общее метафорическое представление о единстве всех людей, вне зависимости от национальности, страны проживания, жизненных событий. Концептуальность идеи усилена визуальной акцентированностью финальных главок произведения.
Разведенные по разным композиционным фрагментам и, на первый взгляд, даже не связанные фразы творчески синтезируются внимательным читателем, вызывая в нем ощущение повторяемости, сильное эстетическое сопереживание описываемому
Фразовый повтор может появляться через значительные блоки текста, от нескольких строк до нескольких страниц, возвращая внимание к предыдущим событиям, рождая ассоциацию с предыдущими мыслями, чувствами, действиями, а также может встречаться в предложениях, следующих друг за другом. В этом случае повтор становится более ярким, легко воспринимаемым, удерживающим внимание:
«<.. > “На вокзалах денно и нощно должны дежурить грамотные, дабы разъяснять приезжающим и отъезжающим разницу между старым строем и новым”.
Разница между старым строем и новым:
Старый строй: - “А у нас солдат был”... “А у нас блины пекли”... “А у нас бабушка умерла”.
Солдаты приходят, бабушки умирают, только вот блинов не пекут» («Мои службы») [Цветаева 1997-1998, IV, кн. 2, 42].
Ритмическая структура в подобных примерах воспринимает особенно четко.
Чем дальше находятся повторяющиеся предложения друг от друга, тем с большей точностью они могут дублироваться в тексте. Например, в «Повести о Сонечке» встречаются почти идентичные предложения: «Такими рассказами он меня поил и кормил в те долгие ночи» и «Такими рассказами я его кормила и поила долгие ночи» [Цветаева 1997-1998, IV, кн. 1, 347, 349], разделенные двумя страницами текста. В данном случае важна и ритмическая повторяемость фрагментов, символизирующая непрерывность действия, его развитие, и смена местоимения, проводящая параллель между действиями героев, что представляет собой композиционный повтор ситуаций, событий.
Подобные повторы не всегда можно выделить в тексте при первом чтении, но все-таки они создают ощущение уже услышанного, знакомого, что позволяет переосмыслить вновь описанные события, придать им особую интонацию, ощущение вращающегося возвратно-поступательного ритма.
Дистантный лейтмотивный повтор, по замечанию исследователей, «осуществляя перекличку значительных частей повествования, скрепляет их и используется как композиционный прием, частично или полностью заменяющий сюжет» [Забурдяева 1985, 62]. Во многом этим обусловлен композиционный принцип ассоциативности построения текста.
Функцией повторов в прозе М. Цветаевой является не только создание ритмической целостности, но и замедление определенных отрывков текста, а также формирование оценочной характеристики того или иного явления и образного строя прозаического произведения.
Ритмическая структура прозаических произведений М. Цветаевой может задаваться спецификой форм организации композиционных элементов, характеризоваться ассоциативностью, монтажностью, фрагментарностью построения. И в то же время композиция прозаического текста может быть подчинена определенным закономерностям, представлять собой определенные типы композиции, формирующие четкий ритмический рисунок, такие как, например, кольцевая структура.
Кольцевая композиция позволяет акцентировать сопоставление начала и финала произведения, создает ритмический повтор, возвращающий к началу текста, позволяющий переосмыслить содержание произведения на новом витке смысла. Не случайно исследователи повторов в стихотворных текстах, например Е.М. Крадожен, подчеркивают их важную композици- онную функцию, отмечая, что они становятся особенно заметными, семантически значимыми в «сильных позициях текста - зачинах, абсолютном начале и конце стихотворения, строки и т.д.» [Крадожен 1989, 11]. Анализируя функцию повтора в стихотворных текстах М. Цветаевой, исследователь называет поэта «мастером ассоциативных перекличек между разными циклами» [Крадожен 1989, 15].
В произведении «Флорентийские ночи» кольцевой принцип раскрывается в особенности датировки писем, именно таким образом в композиционной структуре проявляются особенности развития любовного сюжета.
Произведение повествует о чувствах, которые рождаются из рационального начала (общение М. Цветаевой и берлинского издателя А.Г. Вишняка в эпистолярном жанре), поэтому первое письмо имеет конкретное указание на дату написания: 17 июня 19... Затем любовное увлечение настолько захватывает поэта, что датировка писем замещается эмоциональными, поэтичными обозначениями: названиями дней недели, которые постепенно сменяются указанием на время суток или временной промежуток - ночь, полночь, «рассвет июньского дня». Когда же общение возлюбленных прекращается, угасает чувство, вновь появляется точная дата, указывающая на преобладание разума, рационального начала в отношениях.
Таким образом, организуя текст по принципу кольцевой композиции, М. Цветаева придает произведению смысловую, композиционную и ритмическую завершенность.
Другой композиционной особенностью прозы М. Цветаевой является отсутствие экспозиции.
Своеобразный эксперимент с прочтением прозы М. Цветаевой провела И.В. Кудрова в исследовании «Просторы Марины Цветаевой: поэзия, проза, личность». Исследователь предложила прочитать «наугад» начала любых прозаических произведений поэта и таким образом обнаружить важную особенность ее прозы - «никаких вялых вступительных подходов, постепенностей, приготовлений. Сразу - быка за рога, в самую суть темы. Либо это диалог, либо - живая конкретность эпизода, а если описание, то предельно сгущенное» [Кудрова 2003, 243].
Отсутствие экспозиции - оригинальный «минус-прием», который нарушает привычное, ожидаемое композиционное течение прозаического текста и создает его ритмическое ускорение. Ритмический рисунок прозы формируется не постепенно, через вступительное слово автора, а сразу же с первых строк погружая читателя в интонацию, атмосферу текста.
Например, в произведении «Жених» первая фраза текста находится в тесной взаимосвязи с заглавием, т.к. представляет собой неполное предложение, обретающее полноту смысла только в сопоставлении с названием: «Не мой и не Асин: общий. А в общем - ничей, потому что ни одна не захотела» [Цветаева 1997-1998, V, кн. 1, 180].
По замечанию исследователей, подобные элементы композиции воспринимаются как отсутствующие в привычном понимании их функций в прозаическом тексте, но с точки зрения структуры текста поэтического их отсутствие не просто выделяется, но и имеет определяющее значение для понимания произведения [Шалыгина 2008, 91]. Это позволяет говорить о синкретизме двух различных форм речи - поэзии и прозы - в рамках прозаического текста, о родстве способов ритмической организации стиха и «прозы поэта», в том числе, и в творчестве М. Цветаевой.
Отсутствие экспозиции способствует нарушению читательского ожидания: читатель прозаического произведения настроен на постепенное, плавное погружение в сюжет и знакомство с действующими лицами, но сразу сталкивается с динамичным началом и вынужден быстро ориентироваться в системе образов персонажей и развивающемся сюжете.
Использование в прозе М. Цветаевой такого «минус-приема» нарушает порядок темы и ремы высказывания, что влечет за собой ощутимое изменение ритмического оформления текста. Под темой традиционно понимается нечто уже известное читателю, свершившийся или повторяющийся факт, подготавливающий, настраивающий на восприятие ремы. Рема - новая информация, заключенная в высказывании.
Отсутствие в прозаическом произведении вступлений, подготавливающих к восприятию текста, те. отсутствие темы, заставляет воспринимать первое предложение текста, традиционно считающееся темой, как рему. Таким образом, нарушается привычное ритмико-композиционное членение художественного произведения, изначально задается особый ритм чтения.
Например, в дневниковых записях «То, что было» первое предложение текста, воспринимаемое как тема, повествует о герое-учителе, который изначально понимается как главное действующее лицо: «Он был учителем Андрюши, студент в серой тужурке, с добрыми карими глазами, щурившимися от света и смеха» [Цветаева 1997-1998, V, кн. 1, 98]. Но имя его появляется в тексте значительно позже, и постепенно ему отводится роль второстепенного, эпизодического персонажа. История учителя является ремой, иллюстрирующей одну из основных идей текста: тема произведения зашифрована в заглавии, она воспринимается только после прочтения всей заметки. «То, что было» - это история о любви, ее понимании детским сознанием маленького поэта (через литературу) и ее сестрой (через общение с первым учителем).
Так рождается особая стихия художественного текста, его специфическая интонация, ритмическая структура. Нарушение привычной, ожидаемой логики чтения меняет ритм прозаического текста.
Итак, ритм внутренней композиции прозы М. Цветаевой проявляется в сюжетно-композиционных особенностях произведения, основанных на быстрой смене событийного плана, фрагментарности повествования, сложности ассоциативной связи между частями и главами произведений. Ритмическая структура построенных по таким принципам текстов отличается особой динамичностью, стремительностью развития сюжета и сцепления частей.
Все перечисленные черты находятся в тесном взаимодействии с други-

ми структурными уровнями произведения, акцентируются и дополняются возможностями лексического, синтаксического, фонетического и визуального уровней текста.
Список литературы Специфика сюжетно-композиционного ритма прозы М. Цветаевой
- Гиршман М.М. Ритм художественной прозы. М., 1982.
- Забурдяева В.И. Ритм и синтаксис русской художественной прозы конца XIX - первой трети XX века (орнаментальная проза и сказовое повествование): дис. … к. филол. н.: 10.02.01. Ташкент, 1985.
- Крадожен Е.М. Повтор в структуре поэтического цикла: автореф. дис. … к. филол. н.: 10.02.01. М., 1989.
- Кудрова И.В. Просторы Марины Цветаевой: поэзия, проза, личность. СПб., 2003.
- Семьян Т.Ф. Ритм прозы В.Г. Короленко: автореф. дис. … к. филол. н.: 10.01.01. Алматы, 1997.
- Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2004.
- Шалыгина О.В. Проблема композиции поэтической прозы (А.П. Чехов - А. Белый - Б.Л. Пастернак). М., 2008.