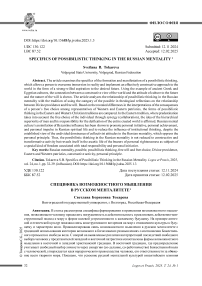Специфика возможностного мышления в русском менталитете
Автор: Токарева С.Б.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена специфика формирования и проявления возможностного мышления, позволяющего человеку преодолеть погруженность в действительность и реализовать действенно-конструктивный подход к миру в форме волевой устремленности к желаемому будущему. На примере античной и египетской культур показана связь конструктивного воззрения на мир с отношением культуры к будущему и характером воли. Проанализирована связь возможностного мышления в русском менталитете с традицией использования категории возможного в богословских размышлениях о соотношении Божественного промысла и свободы воли. С опорой на выявленные различия интерпретаций последствий свободного выбора человека у представителей западной и восточной патристики сопоставлены формы возможностного мышления в восточной и западной христианской традиции. В восточной традиции, где предопределение учитывает свободный выбор личности через синергию (со-делание, со-работничество) Божественной воли с человеческой, утверждается идея иерархического превосходства человека, его ответственности за обожение всего тварного мира. Показано, что усвоение русской ментальной культурой византийского влияния способствовало утверждению в русской духовной жизни личной инициативы, личного подвига, личного порыва и снижению влияния институционального мышления – вопреки утвердившемуся взгляду на безраздельное господство в русском менталитете коллективистских установок, угнетающих личное начало. Таким образом, возможностное мышление в русском менталитете не сводится к конструктивно-преобразовательной деятельности, но обнаруживает себя в подвижнической жизни носителей личной праведности как субъектов особого рода свободы, сопряженной с тотальной ответственностью и личной инициативой.
Русский менталитет, возможное, возможностное мышление, свобода воли и свободный выбор, Божественный промысел, восточная и западная патристика, конструктивная деятельность, личное начало
Короткий адрес: https://sciup.org/149148181
IDR: 149148181 | УДК: 130.122 | DOI: 130.122
Текст научной статьи Специфика возможностного мышления в русском менталитете
DOI:
Цитирование. Токарева С. Б. Специфика возможностного мышления в русском менталитете // Logos et Praxis. – 2025. – Т. 24, № 1. – С. 32–39. – DOI:
Возможностное мышление связано с решением конструктивных задач и вхождением в режимы мышления, вырывающие нас из привычного состояния укорененности в действительном. Благодаря этому человеческое познание, привычно направленное на осмысление уже реализованного, то есть ставшего частью действительности, дополняется новой оптикой, помещающей в фокус рассмотрения то, что существует лишь в потенции. Особую значимость обращение к возможностному мышлению имеет для наук о человеке, долгое время разделявших базовую установку классической психологии на обусловленность текущего поведения прошлым опытом [Знаков 2023, 7] и не уделявших должного внимания ориентации человеческой деятельности на перспективу. В этой связи В.В. Знаков отмечает возрастание в процессах осмысления человеческого бытия роли несбывшегося, но желаемого и указывает на эвристические перспективы включения в антропологические исследования рассуждений в модальности возможного, позволяющей анализировать конструктивное поведение человека в ситуациях устремленности в неизвестное будущее, характеризующихся высоким уровнем неопределенности [Знаков 2022, 21–30].
На всех этапах исторического развития конструктивная деятельность служила источником инноваций в значимых областях общественной жизни – трудовой, управленческой, военной, политической. При этом уже архаичные общества заметно различались между собой степенью приятия / неприятия конструктивного взгляда на мир, что напрямую зависело от укоренившегося в культуре отношения к будущему и возможному. При этом уровень развития культуры не имеет опреде- ляющего значения, что было подмечено О. Шпенглером, писавшим, что культура, подобно душе, не имеет «чувства собственного становления», «не имеет никакого представления о том, что ей надлежит совершить». В этом отношении показательна высокая культура античности, которая «никогда не имела формального мотива и цели внутреннего развития», «никогда не знала чувства будущего» [Шпенглер 2000, 288].
Устремленность к возможному будущему выражается в коллективной психологии в форме воли; соответственно, укорененность античного человека в настоящем проявлялась как своеобразное безволие: «Люди ничего не хотели и ни на что не дерзали, но находили опьяняющую красоту в том, чтобы сносить» [Шпенглер 2000, 301]. В своих желаниях и намерениях, при построении планов и в процессе их осуществления человек античной культуры раскрывал себя как субъект мыслящий, но не волящий в действенно-конструктивном смысле. А.Ф. Лосев отмечал, что главной способностью, позволявшей античному человеку справиться с бесконечным числом случайностей и самоутвердиться, была способность претерпевать, а не преодолевать. Человеческие состояния, типичные для представителя античной культуры, выдавали в нем его пассивно-созерцательный, а не целеустремленноволевой настрой [Лосев 2000, 379]. Показательным в этом отношении Лосев считал тот факт, что под фантазией древние греки практически всегда подразумевали творческое состояние не человеческого, а космического ума, и удивлялся, что лишь однажды ему встретился текст, где «фантазия трактуется... как продукт человеческого энтузиазма и вытекающих из него необычайных, не пассив- ных, но приподнято-восторженных и творчес-ки-активных мыслительных образов» [Лосев 2000, 381], то есть в западноевропейском, а не в античном духе.
Пассивно-созерцательный характер древнегреческой культуры предопределил ключевую роль в ней концептов «судьба» и «логос», связанных с предначертанностью, закономерностью и логикой. К.Х. Кессиди определяет менталитет древних греков как «тип и способ мышления и духовную настроенность, <...> склад ума и характера <...>, обусловивший уникальный в истории человечества феномен (“греческое чудо”)», родившийся результате «перехода от “мифоса” к “логосу”, от психически бессознательного к сознательному, от пралогического мышления к логическому» [Кессиди 2003, 136]. В процессе преобразования мифологического сознания греческая культура не выработала проективно-конструктивного взгляда на мир, однако ее специфическое «безволие» и отсутствие чувства будущего, о которых говорил Лосев, сослужили ей добрую службу, став почвой для развития логики и художественного мышления, не нуждавшихся для своего развертывания во временной перспективе.
«Возможное» всегда имело в древнегреческой философии более низкий статус, чем «действительное» или «необходимое», поскольку «возможное» содержит в себе выражение сомнения, а утверждение о нем («возможно р») предполагает свое отрицание («возможно не-р»). Предельно сниженный статус приписали «возможному» элеаты, сформулировав апорию о невозможности «возможного». Полемизировавший с этим выводом Аристотель [Аристотель 1975, 30] связывал возможное с неопределенным (материальным) началом, переход которого в действительность связан с о-форм-лением, приобретением формы, то есть присоединением того, что относится к действительному [Новолодская 2012, 60]. Таким образом, классическая греческая философия никогда не мыслила возможное в конструктивном ключе, в форме замысла или проекта, то есть того, что онтологически предшествует действительному. И хотя Аристотель использует категорию возможного применительно к тому, что может случиться в какой-то момент времени в будущем, оно ни- как не было соединено с волей, а потому «возможно р» не означало «достижимо р»; оно указывало лишь на те признаки возможного, которые можно вывести чисто логически (например, что превращение его в действительное не является ни невозможным, ни необходимым).
Своеобразным осмыслением времени отличалась египетская культура в древний и средний периоды своего развития. В языке египтян удивительным образом отсутствовали категории прошлого, настоящего и будущего времени для глаголов, так что «египетским языком затруднительно сказать о прошлом как о том, чего уже нет, о будущем как о том, чего еще нет, и о настоящем как о том, что есть лишь теперь» [Кучинов 2017, 111]. В силу особенностей древне- и среднеегипетского письма (использовавшего в написанном тексте только согласные буквы) отсутствие у египетского глагола грамматической категории времени невозможно утверждать с достоверностью; однако даже склонные признавать временную определенность египетских глаголов исследователи согласны к тем, что «она играла подчиненную роль по сравнению с категорией способа действия» [Петровский 1958, 73]. «Способ действия» исключал понятие времени и вводил иную классификацию действий, подразделяя их на однократные, многократные, завершенные, предельные и неопределенные [Петровский 1958, 75]. Это не помешало, однако, древнеегипетской культуре разработать сложную конструкцию времени, включавшую дихотомию линейного и циклического времени. В трактовке последнего важную роль играла категория возможного, благодаря чему солярный круговорот не был синонимом полной неизменности: «Однако круг движения солнца принципиально не замкнут, в нем всегда присутствует расселина возможности...» [Кучинов 2011, 48]. Пристрастие же к хронологическому в древне- и среднеегипетской культуре проявлялось не через грамматические формы, а через склонность «везде видеть последовательность стадий процесса, устремленного к некоторой цели», достигаемой волей и коллективным усилием масс, организуемых государственной властью [Токарева 2011, 114]. В жесткой иерархической структуре египетского общества хаос индивидуальных воль был переплавлен в моно- лит конструктивной воли отлаженной до мелочей государственной машины.
Наиболее полное осмысление конструктивного характера воли происходит в сознании европейского человека под влиянием христианской традиции, которая представляет Бога как Творца, Своей волей созидающего мир в соответствии с определенным замыслом путем выбора из бесконечного числа возможных миров. Тварный мир – это результат осуществления желаемого положения дел, которое изначально существует как возможное . Волевое созидание в соответствии с замыслом становится определяющей характеристикой человеческой деятельности, что резко контрастирует с учением Протагора о человеке как о мере (но не творце) всех вещей [Шпенглер 2000, 449].
Для прояснения специфики возможност-ного мышления в русском менталитете необходимо рассмотреть влияние на процесс его формирования традиции использования категории возможного в богословских размышлениях о соотношении Божественного промысла и свободной воли разумных существ – человека и ангелов, поскольку в этих рассуждениях дается детальная проработка связи между понятиями «возможный мир», «воля», «выбор», «желание».
Конкретные формы возможностного мышления связаны с различными предельными вариантами протекания событий. Проблема состоит в следующем: согласно принципу креационизма, все в сотворенном Богом мире подчинено Его промыслу, и если бы в мире не было свободных разумных существ, то идея Божественного предопределения даже в сильной своей версии была бы достаточным основанием для рассуждений о мироустройстве в русле общей логики, позволяющей делать обоснованные заключения. Однако наличие человека и ангелов, обладающих свободой воли, превращает мироустройство в гораздо более сложную систему.
Определение разумной воли мы можем дать не иначе как с помощью модальных глаголов мочь и хотеть [Эпштейн 2001, 305– 309]. Обладающий разумной волей – это тот, кто, во-первых, способен к хотению (даже если он пока ничего не хочет – подобно тому, как имеющий крылья, обеспечивающие спо- собность летать, может летать, но не всегда находится в полете); во-вторых, способен хотеть сам по себе, то есть способен, по словам Ансельма Кентерберийского, «сам себя подвинуть к хотению» [Ансельм 1995а, 243– 244]. Это понимание воления как хотения удивительно точно соответствует данным психологической науки о феноменологии переживания воли. В книге Д.Н. Узнадзе «Психология установки» описаны результаты экспериментального изучения первичного волевого акта. Как оказалось, сущностным его содержанием является возникновение в момент волевого решения одного специфического переживания, которое субъект может выразить только как «я хочу» (в актуальном моменте – «теперь я действительно хочу»). Разумеется, акт волевого решения сопровождается и другими психологическими состояниями: напряжением (которое субъект отчетливо чувствует); ясным представлением того, что ему надлежит делать (это составляет предметный момент воли); усилием (которое в волевом акте часто неверно принимается за главный элемент – «силу воли») [Узназде 2001, 330– 331]. Однако Узназде акцентирует внимание на том, что «из всех этих моментов только один имеет специфически волевое значение: переживание “я хочу”. Где нет этого последнего, там не может быть речи и о воле. <...> И наоборот: оказалось, что ни напряжение, ни усилие не имеют для воли существенного значения. Воля сама по себе абсолютно свободна от усилия (однако это не мешает ей вызывать иногда необычайно интенсивное усилие)» [Узназде 2001, 332]. То есть наша воля устроена совершенно так же, как Божественная воля: она «работает» без усилия и без насилия. Свободная воля представляет собой переживание чистой «самоактивности», исходящей из «я», в которой в данный момент («теперь») дано то, что должно произойти в будущем и не оставляющей у субъекта сомнения, что вот сейчас он «действительно хочет». Это совершенно согласуется с определением разумного волящего субъекта как в восточной, так и в западной патристике, представители которой (Дионисий Ареопагит, Ансельм Кентерберийский) рассуждают о человеке и ангелах как о «самодвижных», а о свободе как о «самодвижности». При этом особо указы- вается на то, что свободную волю разумных существ Бог ставит выше Его собственного желания всеобщего спасения, так что оберегание «самодвижности» (свободы) имеет приоритет над необходимостью Божественного промысла о спасении, то есть над обожением, к которому человек призван [Лурье 2015, 501].
Божественная, ангельская и человеческая воля проявляют себя сходным образом (поскольку тварные разумные существа созданы по образу Божиему), однако условия осуществления их свободы и характер воли у них все же различны. В человеке, бытие которого повреждено грехом и его следствием – злом, преобладает несовершенная гномическая воля, выражающаяся в свободе выбора. Лишь при условии достижения человеком высших ступеней совершенного бытия (святости, об о жения) его воля входит в естественное согласие с Божественной волей, что соответствует ее изначальному райскому состоянию ( фелима ). Отказ человека от несовершенной (хотя и свободной) гномической воли составляет важнейшую цель духовной жизни, хотя это состояние и не может быть достигнуто как окончательное и необратимое.
Нетрудно видеть, что возможностное мышление как основа конструктивной деятельности тесно связано именно с гномической волей, предполагающей выбор из возможных вариантов и потому своей начальной стадией имеющей колебания субъекта: «До осуществления акта решения субъект переживает некоторую несостоятельность, колебание, возбуждение. Акт решения не постепенно созревает и подготавливается, а происходит сразу, как бы неожиданно, без подготовки. Результатом же является исчезновение прежней несостоятельности и чувства неопределенности, и взамен возникают переживания определенности, устойчивости и спокойствия» [Узнадзе 2001, 338]. Акт решения «прерывает прежнее состояние и вступает в совершенно новое, в котором не сохранилось ничего от старого состояния» [Узнадзе 2001, 333].
«Неконструктивный» вариант возможно-стного мышления и волевого выбора представлен в теологических рассуждениях об ангелах (большая часть этих рассуждений относится не к области строгой догматики, а к области богословских мнений – теологуме- нов). Условия, в которых ангелы осуществляли свой однократный выбор о принятии или отвержении установленной для них Богом меры блаженства, принципиально отличались от тех, в которых выбор делает человек: поскольку ангелы были созданы раньше людей, они не имели перед собой в момент выбора образцов поведения и не обладали знанием его последствий. По мысли Ансельма, возмож-ностное поведение ангелов исключало предвидение: ни злые ангелы не могли предвидеть своего будущего падения, ни добрые не знали, что они устоят и останутся верными. Кроме того, ангелы, зная, что за согрешение полагается наказание, не знали, будут ли наказаны. По справедливости наказание должно последовать, но последует ли – им было неизвестно. Не обязательно же Бог должен поступить по справедливости; Он может поступить и по милости. И лишь после проявления ангелами своей воли «один узнал о наказании из своего опыта, другой усвоил из его примера» [Ансельм 1995а, 259–262]. Человек, изначально сотворенный как носитель воли фели-мы, после грехопадения и произошедшего еще ранее отступничества части ангелов остается единственным существом, наделенным гномической волей – свободой выбора. При этом ситуация выбора для человека является не однократной (как это было у ангелов), а повторяющейся. При этом человеческая ситуация имеет по сравнению с ангельской то несомненное преимущество, что все свои выборы человек делает, имея перед собой как пример отступничества и наказания злых ангелов, так и образец поведения и подражания в лице добрых ангелов.
Если в западной традиции акцент сделан на конструктивном характере возможностного мышления и связанной с ним гномической воле, то на формирование русского менталитета определяющее влияние оказала восточная патристика, отводящая центральное место онтологическим последствиям личностного выбора.
Соотношение существующего мироустройства и потенциальных миров, возможность которых обусловлена свободным выбором индивидуальных субъектов, мыслится представителями восточной и западной патристики в разных модальных онтологиях. В западной богословской традиции парадоксальная гармонизация свободы воли с Божественным промыслом описывается в терминах «объективистской» онтологии. В этом случае все возможные ситуации (и, соответственно, все возможные миры), обусловленные свободным выбором субъекта, отклоняющим действительность от промыслительного плана, считаются логическими возможностями, оцениваемыми с точки зрения вероятности их актуализации, а достоверность знания о них фиксируется используемыми в эпистемичес-кой модальности операторами «доказано», «не доказано», «подтверждено», «опровергнуто» и т. д. При этом непреложность действия Божественного промысла также получает логическое объяснение: при всех возможных действиях, обусловленных человеческой свободой, Бог, ограничивая Сам Себя особой «моральной необходимостью» (на которую не влияют волевые решения человека или ангелов), принимает на Себя обязательство в каждом случае поворачивать дело так, чтобы при любом результате свободного выбора, осуществленного тварными существами, все дальнейшее оборачивалось бы наилучшим образом. Тем самым Бог, каждый раз реализуя «лучший из возможных миров», проявляет Свое всемогущество, а любая онтологическая альтернатива промыслительному миру, возникающая в результате человеческого или ангельского выбора, оказывается реализацией одного из логически возможных миров (которые до своей реализации как чистые возможности находились вне онтологии, так что знание о них не могло быть выведено с достоверностью и оставалось вероятностным). При этом онтологический статус Бога, ангелов и человека остается неизменным – несмотря на то что в результате реализованной свободы выбора все они (и мир в целом) оказываются в ситуации отклонения от про-мыслительного состояния. Таким образом, все обусловленные действием гномической воли «возможные миры», будучи логически возможными, онтологически равны в том отношении, что любая цепочка причинности, появившаяся в результате свободного выбора разумных существ, оказывается установленной (предопределенной) не тварной, а Божественной волей, неизменно возвращающей мир к гармонии [Ансельм 1995б, 215].
В восточной патристике, напротив, предполагается, что Божественный промысел как форма детерминации сотворенного бытия необратимо нарушается свободной волей человека в случае его противодействия Божественной воле. Предопределение здесь учитывает свободный выбор человека особым образом: гармония предузнается Богом и непрерывно предустанавливается, однако не единолично Им, а в синергии (со-делании, со-работничестве) с человеком. В этой онтологии в каждом индивидуальном случае свободный выбор субъекта влечет за собой изменение его онтологического статуса. Это означает, что сама бытийность человека не остается неизменной: она возрастает там, где согласие свободной воли с Промыслом приводит к обогащению бытия, и умаляется – вплоть до полной утраты – там, где человек отворачивается от Бога (при этом утрата бытия не означает исчезновения индивидуальности). В этом контексте становятся понятными парадоксальные идеи, которые всегда вдохновляли православных духовных подвижников: 1) идея о том, что об о жение не только возможно, но и с необходимостью должно быть достигнуто человеком, воля которого устремлена к тому, чтобы быть (а не только иметь индивидуальность); 2) идея об иерархическом превосходстве человека, утверждающая его (вопреки античной традиции) как макро-, а не микрокосм: человек как средоточие мироздания призван через личную причастность Божественному Логосу привести к об о жению весь тварный мир (см.: [Неклюдов 2019]).
Такой подход ставит предельно высоко личную ответственность человека и оказывает определяющее влияние на русский менталитет, проявляясь в характерных чертах русской духовной жизни. С.С. Аверинцев отмечал, что отличие от Запада, усвоившего из еврейской и греческой культур традицию формирования текстов «совокупными усилиями многих книжников», в русской духовной жизни определяющей была «инициатива русского одинокого инока» – того, кому «пристало действовать уединенно, уповая на помощь только Единого Бога...» [Аверинцев, с. 189]. Изначально в самом существе русской культуры заключена была «определенная мера перевеса личного подвига над всем корпора- тивным и институциональным, которая – скажем так – относительно чаще встречается в нашей культурной истории, нежели в истории западных культур. <...> Там корпоративная традиция – у нас отдельные люди, которые бросают вызов и казенной привычке, и духу времени» [Аверинцев 2005, 190].
Таким образом, возможностное мышление в русской культурной традиции не сводится к конструктивно-преобразовательной деятельности, но наиболее полно обнаруживает себя в подвижнической жизни носителей личной праведности, образ жизни которых, прототипически отраженный в русской литературе, оказал определяющее влияние на развитие русской религиозной, художественной и социально-гуманитарной мысли. Именно на основе этого духовного опыта в русском менталитете сформировался специфический тип возможностного мышления, связанный с особого рода свободой, делающей человека, по выражению М.М. Бахтина, «сплошь ответственным» и позволяющей не сбиться с пути к избранной цели даже тогда, когда двигаться приходится в одиночестве и против течения.