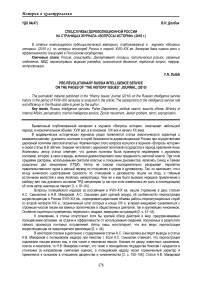Спецслужбы дореволюционной России на страницах журнала «Вопросы истории» (2010 г.)
Автор: Долбик В.Н.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Технология переработки
Статья в выпуске: 9, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется публицистический материал, опубликованный в журнале «Вопросы истории» (2010 г.), по истории спецслужб России в период XVIII-XIX вв. Автором дана оценка роли и эффективности спецслужб в Российском государстве.
Россия, спецслужбы, департамент полиции, политический розыск, охранные отделения, мвд, перлюстрация, морская разведка, сионистское движение, еврейский вопрос, террор, экспроприация
Короткий адрес: https://sciup.org/14083265
IDR: 14083265 | УДК: 94(47)
Текст научной статьи Спецслужбы дореволюционной России на страницах журнала «Вопросы истории» (2010 г.)
Выявленный опубликованный материал в журнале «Вопросы истории» охватывает небольшой период: в незначительном объеме XVIII век, а в основном XIX век и начало XX века.
В академических исторических журналах редко появляются статьи аналитического характера о взаимоотношениях духовного сословия и служб безопасности дореволюционной России при осуществлении церковной политики светской властью. Фрагментарно этого вопроса коснулся в журнале «Вопросы истории» в своей статье В.В. Вяткин. Знакомя читателей с церковной политикой государства в период правления Анны Иоанновны, автор статьи отмечает, что данная политика была проникнута недоверием к духовному сословию, которое, в свою очередь, всячески демонстрировало свою преданность светской власти. При этом орудиями расправы, используемыми светской властью в отношении духовенства, являлись Синод и Тайная розыскных дел канцелярии (ТРДК). Автор не совсем последовательно раскрывает перипетии правительственного курса в данный период по отношению к церкви и духовенству. Так, он заключает, что к концу аннинского царствования суровость по отношению к духовенству пошла на спад, а главным источником милостей к нему являлась императрица. Чем же и кем было вызвано нередкое привлечение к разбору дел лиц духовного сословия ТРД канцелярии (и как при этом изменилась ее роль в последующем) об этом автор анализа не говорит [1, с. 91–94].
Вопросы полицейского надзора за россиянами в XVIII–XIX вв. нашли отражение в двух статьях А.С. Смыкалина и Н.В. Макаровой. А.С. Смыкалин дает краткий экскурс об особенностях перлюстрации корреспонденции в России XVIII–XIX вв., подчеркивая нарастание объема работы перлюстрационных служб со второй четверти XIX в., ограниченный штат которых в конце XIX в. успевал ежедневно ознакомиться с огромным числом писем как важных политических и общественных деятелей, так и крупнейших чиновников. Особенно тщательно проверялась переписка с людьми, живущими за границей [2, с. 41–44].
К сожалению, в статье отсутствует хотя бы краткий обзор действий и мер, предпринимаемых полицейскими органами, их отдачи и эффективности от использования сведений, полученных в результате тайного просмотра почтовых отправлений. Автор лишь констатирует, что все меры перлюстрации корреспонденции не предотвратили революции [2, с. 44].
В некоторой степени в диссонанс с содержанием статьи А.С. Смыскалина выглядят выводы в статье Н.В. Макаровой о полицейском надзоре при Николае I. Если А.С. Смыкалин отмечает, что перлюстрации подлежали письма многих лиц, в том числе и переписка персон, близких по двору, известных сановников, поэтов и писателей, то Н.В. Макарова считает, что тезис о полицейском государстве Николая I нуждается в уточнении (в направлении смягчения оценок), а полицейский надзор носил ограниченный характер и применялся в основном в отношении дворянства и чиновничества [3, с. 155–156]. Статья Н.В. Макаровой дополняет сведения о структуре и характере полицейского надзора, которые, по ее мнению, остаются недостаточно освещенными в литературе. На наш взгляд, оба автора, в большей степени Н.В. Макарова, занижают весь масштаб полицейского надзора в России в период правления Николая I.
На наш взгляд, сама обстановка в стране после выступления декабристов, широкое, длительное распространение либеральных, освободительных и всякого рода идей преобразований задолго до начала правления Николая I, а также сложная международная обстановка и определенное потеснение позиций российской дипломатии и другие факторы, вынуждали к усилению полицейского политического режима в стране.
В журнале в двух статьях кратко затрагивается участие МВД при переселении иностранцев в Россию. Роли МВД при переселении немцев на Кавказ касается статья Т.Н. Черновой-Дёке. Автор отмечает «некоторую несогласованность действий центральных и местных властей», причем, «действий звеньев одной цепи», проявленную в первое время при водворении немецких переселенцев в Грузии, в том числе и со стороны МВД. В дальнейшем МВД прилагало усилия к обустройству колоний, что в определенной степени способствовало достижению заметного благосостояния колонистами [4, с. 94–95, 103].
В статье А.В. Тихоновой рассматривается политика российских властей в первой половине XIX в. в отношении иностранных иммигрантов, в основном из Швейцарии. Пребывание иностранных колонистов в России при Александре I и Николае I курировало и МВД, которое уделяло внимание к привлечению иностранцев, проводило подготовительную работу к их размещению, определяло правила их водворения и пребывания в России [5, с. 85–88].
Статьи Т.Н. Черновой-Дёке и А.В. Тихоновой не раскрывают конкретной деятельности чинов МВД России среди иностранных иммигрантов на всех этапах решения данного вопроса.
Не обойдена журналом «Вопросы истории» и такая больная проблема, как отношение ряда чинов полиции, МВД, правительства к еврейскому вопросу, что находит частичное и неполное отражение в двух статьях за 2010 г.
Статья А.Т. Безарова на примере киевского генерал-губернаторства раскрывает неоднозначную позицию некоторых чинов полиции, МВД России к еврейскому вопросу и еврейским погромам в начале 1880-х гг. Как видно из статьи, часть полицейских киевского генерал-губрнаторства стремилась не допустить погромных выступлений и пыталась их предотвратить. Товарищ министра внутренних дел Черевин телеграфировал киевскому генерал-губернатору А.Р. Дрентельну отправить войска в г. Тальное, где по информации МВД ожидался погром. Из статьи явствует, что еврейский вопрос в Киеве осложнялся ситуацией нелегального временного пребывания евреев в городе, «что фактически создало целую сеть взяточничества в среде киевской полиции» (нахождение евреев оказывалось возможным благодаря определенным их «взносам» полицейским) [6, с. 147].
В целом автор статьи позицию Дрентельна в еврейском вопросе и его отношение к погромам четко и в полном объеме не изложил. Вывод: посылка же автора о том, что «активная позиция Дрентельна в еврейском вопросе была с пониманием встречена в высших правительственных кругах, что позволяет рассмотреть ее в контексте общей государственной политики» [6, с. 147], не подкреплена соответствующим материалом, его анализом и обобщением. Поэтому вряд ли стоит хоть как-то отождествлять, что иногда, противореча себе, делает автор, особую и жесткую позицию Дрентельна в еврейском вопросе с политическим курсом российского правительства в целом, как и всего спектра российского консерватизма того времени. Не ясен в статье и правительственный курс в еврейском вопросе, что частично признается и самим автором на примере Юго-Западного края, ситуация в котором требовала «решительных и в то же время политически продуманных действий, которых, к сожалению, в арсенале государственной политики к тому времени не оказалось» [6, с. 151]. Это еще раз заставляет обратить внимание на то, в какой сложной обстановке, без четких ориентиров приходилось работать полицейским, в данном случае по еврейскому вопросу.
Интерес представляет статья А.Е. Локшина о начале становления международного сионистского движения, в котором с самого начала российская ветвь, по его мнению, стала ведущей. Сионистское движение, набиравшее силу, вызвало замешательство местных полицейских структур и чинов: они ставили перед высшим полицейским руководством России один и тот же вопрос: как относиться к новому движению среди евреев? Но они не могли получить четкого ответа, так как этот вопрос долго обсуждался в Департаменте полиции, МВД, Министерстве иностранных дел. В 1902 г. власти дали согласие на проведение легального российского съезда сионистов в Минске, рассчитывая, что дебаты на нем помогут окончательно определиться в проведении политики к сионизму в целом. В конце июня 1903 г. губернаторам, градоначальникам и обер-полицмейстерам был разослан секретный правительственный циркуляр за подписью министра внутренних дел В.К. Плеве «О сионизме и еврейском национальном движении». Согласно этому документу, любая сионистская деятельность в империи, не направленная на эмиграцию евреев, запрещалась [7, с. 66]. Дух этого документа, на наш взгляд, говорит о том, что правительство и МВД не смогли детально вникнуть в суть сложившегося вопроса и предложить, в том числе полицейским структурам, систему мер, направленную на смягчение ситуации вокруг еврейского вопроса в России. И в дальнейшем они не имели четких ориентиров и не могли определенно направить работу государственного аппарата управления в данном вопросе.
Статья И.В. Зимина знакомит с жизненным путем генерала П.А. Черевина, игравшего на протяжении 30 лет ключевую роль в личной охране российских императоров Александра II и Александра III. Автор замечает, что 1879–1880-е гг. были тяжелым временем для силовых структур империи. Он останавливается на вопросах как их реорганизации, так и системы охраны первых лиц государства, показывая при этом роль Черевина в организации и деятельности служб государственной охраны Российской империи [8, с. 130–131]. Правда, автором статьи обойдены вопросы о событиях 1 марта 1881 г., связанных с убийством Александра II и причинах непредотвращения этого, в том числе об усилиях и стараниях недопущения подобного исхода событий со стороны Черевина.
Темы о тайных сотрудниках Охранного отделения касаются в своей статье о Б.И. Николаевском Ю.Г. Фельштинский и Г.И. Чернявский. Ими отмечено, что Николаевский обнаружил в бумагах Департамента полиции доказательства того, что видный большевистский руководитель, член ЦК, депутат IV Думы Р.В. Малиновский являлся тайным сотрудником Охранного отделения [9, с. 23]. В статью внесена корректировка взглядов Николаевского о провокаторстве Азефа. Уже после 1932 г., когда Николаевский выпустил свою крупную монографию о провокаторстве Азефа, он уточнил, что Азеф не являлся провокатором в прямом смысле слова, а был полицейским агентом, аккуратно докладывавшим подробную информацию о всех готовящихся терактах [9, с. 30]. Опубликовать же дополненное издание работы об Азефе Николаевский не успел.
Авторы публикации выделяют осторожную, с соблюдением величайшей серьезности отношения к документальному материалу, позицию, которую занимал Николаевский и в вопросе о связях Сталина с охранными службами империи. Вместе с тем он пришел к твердому выводу о подложности знаменитого письма А.М. Ерёмина [9, с. 39]. Подобная позиция Николаевского способствовала тому, что американский советолог А. Дон Левин, опубликовавший письмо А.М. Ерёмина, нехотя признал возможность того, что у «ереминского документа» может оказаться «сомнительное происхождение» [9, с. 39, 45]. Ю.Г. Фельштинский и Г.И. Чернявский напомнили, что все те несообразности в «ереминском документе», на которые обратил внимание Николаевский, полностью подтверждены известным исследователем политического сыска в России З.И. Перегудовой [9, с. 40].
В статье И.А. Вербы о В.Л. Бурцеве наличествуют сведения о царской охране, ее агентах, в том числе за рубежом, о разоблачении В.Л. Бурцевым «шпионов и провокаторов царской охранки»: Азефа, Гартинга, Жученко и др.
О том, какими же мотивами морально-психологического плана руководствовался В.Л. Бурцев в своей многолетней, напряженнейшей разоблачительной деятельности, насколько она имела значение, оправдание в смысле служения России (и какой России?) и в свое время и на перспективу, всегда ли и насколько были адекватны его разоблачительные сведения, автор статьи, к сожалению, не проанализировал данный спектр вопросов и даже не высказал своих соображений по ним. Желательно было бы уточнить, дополнить в статье и о позиции бывшего директора Департамента полиции А.А. Лопухина при разоблачении Азефа: причинами какого свойства он при этом руководствовался. Тем более, что в литературе встречается и несколько иные свидетельства об обстоятельствах причастности Лопухина к разоблачению Азефа [10, с. 154–155].
Картина разыгравшихся революционного террора и актов экспроприаций в Поволжье в годы Первой русской революции и их отголоски вплоть до 1913 г. представлена в статье В.Н. Кузнецова. В ней в некоторой степени передается несобранность, неподготовленность губернских жандармских управлений к подобному исходу событий, и даже растерянность, охватившая их на первых порах. Но все же с разбушевавшейся стихией охранным отделениям, хоть и с трудом, удалось справиться. Автор, правда, не обрисовывает подробно то, какими методами, приемами это удалось осуществить. Несколько более других освещается в этот период деятельность местного охранного отделения под руководством А.П. Мартынова [11, с. 32–35].
События революции 1905–1907 гг. в России и последующих лет заставляют задуматься об оценке всех предшествующих проведенных реорганизаций розыскной полиции, их эффективности и даже простой отдаче.
Краткие сведения о зарождении и становлении (1895–1917 гг.) отечественной морской радиоэлектронной разведки (РЭР) содержатся в статье В.Г. Кикнадзе. Впервые элементы радиоразведки были применены в Русско-японской войне 1904–1905 гг., но, как замечает автор, она все же не оказала существенного влияния на исход войны, а в последующем недооценка высшим военным и государственным руководством возможностей радиотехники и РЭР сдерживала организационное становление морской радиоразведки [12, с. 75]. Это, на наш взгляд, в какой-то степени негативно сказалось на ее работе и в годы Первой мировой войны, что явствует и из статьи автора [12, с. 76–77].
Рецензент книги В.Г. Кикнадзе «Невидимый фронт войны на море. Отечественная морская разведка в первой половине XX века» С.Л. Печуров отмечает, что в тех немногих изданиях, которые вышли в свет по горячим следам дальневосточных событий, связанных с Русско-японской войной 1904–1905 гг., деятельность русской военной разведки «оценивалась преимущественно негативно, несмотря на отдельные достижения» [13, с. 171].
Символично ли, но случайно выбранный автором данной статьи журнал «Вопросы истории» за 2010 год для обзора-анализа опубликованных материалов о спецслужбах дореволюционной России завершает краткая, но значимая и яркая по оценкам статья В.С. Измозика, который предпринял попытку рецензии воспоминаний чинов политического розыска Российской империи начала XX века, занимавших высокие посты в данной системе.
Все мемуаристы – А.Т. Васильев, А.В. Герасимов, К.И. Глобачёв, В.Ф. Джунковский, П.П. Заварзин, К.Д. Кафафов, А.П. Мартынов – в свое время являлись либо начальниками столичного охранного отделения, либо директорами (или вице-директором) Департамента полиции, либо товарищами министра внутренних дел. В 1905–1917 гг. из семи авторов четверо служили начальниками охранных отделений, а трое – занимали важнейшие посты в центральном аппарате МВД, руководя Департаментом полиции и Отдельным корпусом жандармов [14, с. 150].
В.С. Измозик, рецензируя мемуары, выделяет объединяющее всех авторов стремление понять причины краха империи. Им выделяется, что главными виновниками краха авторы воспоминаний довольно дружно считают либеральные и высшие военные круги, а также они указывают на слабость верховной власти [14, с. 151]. На наш взгляд, лавру первенства виновности стоит все же отнести на счет верховной власти, неудовлетворительно подготовившей страну к войне, неизбежность которой предвидело немало политических и государственных деятелей России, пытаясь ее предотвратить. Однако их усилия, как и части дипломатического ведомства (в котором не было полного единства по вопросам внешней политики и предстоящей войны), в том числе и заграничного корпуса, были нейтрализованы.
Всплеск недовольства верховной властью со стороны либералов и новых выдвинувшихся высших военных чинов произошел именно на почве крайне неудовлетворительной подготовки армии к войне, поражениями на театре военных действий. Конечно, либералов захлестнули чувства, но военные честно защищали страну в войне и были обеспокоены ее судьбами, испытав на себе всю цену заявлений и их превратностей о готовности России воевать.
В годы же войны, как отметил и сам рецензент, ссылаясь на К.И. Глобачёва, правительство проявляло слабость и неспособность, не сумело выдвинуть в последние два года на пост министра внутренних дел «ни одного хоть сколько-нибудь талантливого и твердого политического деятеля, способного остановить это злое дело», имея в виду подготовку лидерами прогрессивного блока так называемого «дворцового переворота». О нарастании широкого недовольства в столице, о назревании «анархической революции», свидетельствующих о глубоком социально-экономическом и политическом кризисе накануне 1917 г., лица с высокими властными полномочиями, в том числе и сам царь, как отмечает В.С. Измозик, предупреждений слушать не желали. В число этих лиц, по его мнению, входили сами руководители Министерства внутренних дел. Сама же деятельная опора царского двора была узка [14, с. 152–153].
Обращает на себя внимание то, что часто в литературе выпячивается одно из звеньев, в том числе и роль прогрессивного блока в ухудшении политической ситуации в столице в годы войны (1915 г. – начало 1917 г.). Не снимая вины с либералов, нам бы хотелось подметить, что их движение использовалось для нагнетания страстей силами, которые политические спецслужбы не смели выявить и поставить заслон и им и оппозиционерам.
Можно согласиться с рецензентом мемуаров в том, что выделенные в них реплики, мнения, выводы, замечания дают ему основание утверждать о глубине политического кризиса в начале XX в. [14. с. 153]. От себя добавим, что он носил всеобъемлющий характер и начал зарождаться еще до организационного оформления и либерально-оппозиционного и революционно-социалистических движений в России. Кризис набирал настолько стремительные обороты, что в конце в концов сложилась такая морально- психологическая атмосфера, когда, по словам К.И. Глобачёва, «не только общественность, но даже правительственные органы, сами министры, военная власть, представительные органы, правительственные органы и даже лица, окружавшие государя, борьбе с всенарастающим революционным движением не только не сочувствовали, но, наоборот, одни сознательно, а другие бессознательно толкали Россию в пропасть» [14, 152].
Здесь уместно было бы добавить, что сочувствие проявлялось не только к революционному, но практически к любым критически оппозиционным настроениям и движениям самого широкого диапазона. Можно ли было этого избежать или нейтрализовать или хотя бы хоть как-то ослабить? Содержание статьи В.С. Измозика убеждает в том, что навряд ли. Можно в какой-то степени оспорить приведенное в статье мнение В.Ф. Джунковского о том, что Февраль 1917 г. нужен был «кучке людей кадетской партии и примыкающим к ней прогрессистам», а также социалистам, но нельзя не признать правоту его несколько чрезмерно жесткого сурового вывода-приговора, что с 1915 года Россия «ничем уже не сдерживаемая, а подхлестываемая подонками общества и управляемая ничтожествами, полетела в бездну» [14, с. 151].
Предотвратить подобный исход событий уже не в состоянии были и политические спецслужбы России, и статья В.С. Измозика убеждает в этом читателей. Во-первых, Департамент полиции (ДП) не играл никакой самостоятельной роли. Во-вторых, здесь не сосредоточили главное внимание на серьезном изучении всех политических течений, «самом широком и основательном знакомстве с политическим настроем страны», а разменивались на мелкую работу, а потому были бессильны в борьбе с бурно надвигающейся политической катастрофой [14, с. 151]. В-третьих, центральное руководство аппарата по политическому розыску недостаточно было осведомлено о происходивших в стране политических процессах. В-четвертых, денежных средств на усиление политического розыска ДП выделял недостаточно. В-пятых, руководители Министерства внутренних дел в годы Первой мировой войны часто сменялись (этот пост последовательно занимали 6 человек), они или не имели необходимого опыта работы и знаний, в том числе в политических вопросах, или не проявляли интереса к политическому состоянию России и общественным настроениям, или игнорировали письменные и устные доклады Охранного отделения и Департамента полиции, даже их отменяя, или совершенно не подходили к этой должности. Директора же Департамента полиции того времени также не имели требуемого опыта или не желали портить отношения с высоким начальством [14, с. 152]. В-шестых, часть руководителей политического розыска допускали провокационные приемы в своей работе. В-седьмых, некоторые чины полиции, губернских жандармских управлений и Охранных отделений были подтверждены взяточничеству. В-восьмых, из приведенных в статье выдержек индивидуальных характеристик руководителей и ведущих работников политического розыска, в том числе министров внутренних дел и их товарищей, предстает весьма нелицеприятная картина личных и деловых качеств некоторых из них. Это и беспринципность, неразборчивость в использовании средств и людей, годных на все руки для достижения целей, и небережное отношение к агентуре, проваливание сотрудников розыска и «втирание очков» в работе, и самонадеянность, самовлюбленность, надменность, непочтение независимости в других, и надежды и мечты о наградах, повышении по должности, и проявляемые хитрость и пронырство, и подхалимство перед высшими чинами. Все это свидетельствует об отсутствии атмосферы согласия, доверия, столь необходимой в работе политических спецслужб.
Пожалуй, из всех отмеченных причин и факторов наиважнейшим, по нашему мнению, является первый. Полицейские органы, политическая полиция и политический розыск были поставлены в такие условия, что оказались не в состоянии изменить общее направление развития страны в лучшую сторону или удержать хотя бы статус-кво, предотвратить ее катастрофу, последовавшую в 1917 г.
Сказывалось и то, что, судя по всему, монархи, опутанные влиянием интересов разного рода лиц, планов, не в полной мере разбирались в их подноготных хитросплетениях, не смогли поставить дело так, чтобы информация политической полиции доходила до них как можно в большем объеме, а сами не обладали достаточным опытом в вопросах политического розыска.
Не имея полной информации политической полиции, невозможно было конкретно повлиять на ход событий, скорректировать и сориентировать на него весь правительственный аппарат, а значит, невозможно было определить четкие задачи дальнейшего развития страны и деятельности спецслужб, выработать хоть какие-то механизмы, обеспечивающие продление существования страны даже на короткий период, не говоря уже о ее перспективах на будущее.
На наш взгляд, органы и политической и общей полиции России никогда не представляли из себя цельной, монолитной структуры до 1917 г. Они всегда испытывали хоть какое-то влияние или воздействие (не всегда и прямое) разных политических и общественных структур, сил, лиц. А в силу определенного недоверия, подозрительности верховной власти к спецслужбам, как в целом даже и к элите страны, явно проглядывается тенденция, что в государстве не была выработана и осуществлена цельная, глубоко продуманная, полновесная система по гомогенизации всех спецслужб для обеспечения ими функций безопасности страны и на какой-то определенный период и на перспективу. Складывается впечатление, что существовала несогласованность, разобщенность в деятельности спецслужб устраивала верховную власть, или она уже вообще не могла осуществлять компетентное руководство (возможно из-за всеобъемлющего кризиса, охватившего страну).
В силу отмеченного говорить об эффективной работе и роли спецслужб царской России до 1917 г. не приходится. Однако объяснения причин, почему сложилась такая ситуация, что препятствовало их полноценной работе, в силу каких обстоятельств, факторов они оказались не на высоте, на страницах журнала «Вопросы истории» обстоятельных статей с глубокими обобщениями и анализом (и даже попыток этого) не найдешь.
Казалось бы, что на основании опубликованного материала журналом «Вопросы истории» о спецслужбах России до 1917 г. трудно оценить вклад издания в освещение российской истории. Но при том, что история спецслужб дореволюционной России освещается в нем фрагментарно, без увязки со всеми периодами развития страны и самих служб, без всестороннего осмысления их деятельности, эта информация необходима не только российским читателям, но особенно профессиональным историкам. Ибо всегда от деятельности, места, роли и эффективности работы спецслужб, их ответственности за судьбы Российского государства и его граждан зависит жизнь нашей страны.