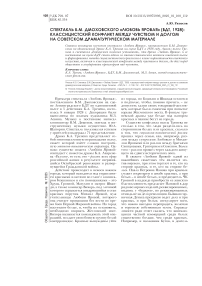Спектакль Б. М. Дмоховского «Любовь Яровая» (БДТ, 1928): классицистский конфликт между чувством и долгом на советском драматургическом материале
Автор: Ряпосов А.Ю.
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Культурное наследие
Статья в выпуске: 1 (74), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению спектакля «Любовь Яровая», поставленного Б.М. Дмоховским по одноименной драме К.А. Тренева на сцене БДТ в 1928 году. Анализ пьесы Тренева и спектакля Дмоховского позволил установить, что драма «Любовь Яровая» и ее постановка на сцене БДТ стали одним из этапов становления поэтики советской пьесы и формирования метода социалистического реализма в плане нормативности советского искусства, включая и классицистский конфликт между чувством и долгом, где долг перед обществом и государством превалирует над чувством.
К.а. тренев, «любовь яровая», бдт, б.м. дмоховский, м.з. левин, метод социалистического реализма
Короткий адрес: https://sciup.org/140309531
IDR: 140309531 | УДК: 792.07 | DOI: 10.53115/19975996_2025_01_108_112
Текст научной статьи Спектакль Б. М. Дмоховского «Любовь Яровая» (БДТ, 1928): классицистский конфликт между чувством и долгом на советском драматургическом материале
Общество. Среда. Развитие № 1’2025
Премьера спектакля «Любовь Яровая», поставленного Б.М. Дмоховским на сцене Ленинградского БДТ по одноименной пьесе в 5 действиях К.А. Тренева, состоялась 8 января 1928 г. Декорации были выполнены по эскизам художника М.З. Левина. Музыку к постановке написал композитор В.М. Дешевов, монтаж и инструментовку музыки осуществил Ю.А. Шапорин. Спектакль пользовался успехом у зрителей и выдержал 71 представление.
Драма К.А. Тренева представляет собой многонаселенную персонажами пьесу, сюжет которой имеет сложно построенную мотивно-тематическую структуру . Однако существо сюжета «Любови Яровой» совпадает с сюжетом драмы Б.А. Лавренева «Разлом», то есть это – разлом всех сфер российской жизни в результате свершившейся Октябрьской революции и развернувшейся Гражданской войны.
Действие происходит в некоем южном городе, который находится под управлением красными властями во главе с комиссаром Кошкиным и его помощниками – это Хрущ, Грозной, Мазухин и матрос Шван-дя, а также комиссар Вихорь, под личиной которого скрывается внедрившийся в стан красных поручик Михаил Яровой, муж учительницы Любови Яровой, которого она считает пропавшим без вести во время боев Первой Мировой войны. На город наступают белые, и, чтобы их остановить, необходимо взорвать Жегловский мост. Вихорь вызывается командовать этой операцией, но сдает свою боевую группу белой контрразведке. Красные вынуждены уйти из города, но Кошкин и Швандя остаются в подполье, чтобы, помимо прочего, – не допустить казни своих товарищей-жеглов-цев, которые были схвачены при попытке взрыва Жегловского моста. В финале тре-невской драмы уже белые под напором красных в панике бегут из города.
Существо конфликта пьесы Тренева не столько в том, что люди разделились на сторонников белых или красных, сколько в том, что социально-политический разлом прошел через семьи, как, например, разлом между супругами Любовью и Михаилом Яровыми или разлом между братьями Скопцовыми, Григорием и Семеном. Более того – разлом прошел через каждого живущего на сдвиге исторических эпох.
В сюжете «Любови Яровой» одной из важнейших сюжетных тем является мотив торговли, при этом торгуют и те, кто на стороне красных, и те, кто на стороне белых. Павла Петровна Панова при красных служит секретарем в штабе красных, а при белых – в штабе белых, и председатель ЧК Грозной в надежде приобрести ее женскую благосклонность предлагает Пановой в дар ряд ювелирных изделий, реквизированных, видимо, у «буржуев», но реквизированных отнюдь не на дело революции. Бывшая горничная Дунька прекрасно ведет дела и при красных, и при белых; спекулирует всем, что можно выгодно перепродать, включая и торговлю собственным телом. Справедливости ради стоит сказать, что занимающихся частной коммерцией среди белых существенно больше, чем среди красных. Например, и полковник Кутов, и деятель тыла Елисатов тоже жаждут «купить» Павлу Панову, при этом первый торгует большими партиями дефицитнейшего сахара из фондов обеспечения армии, а второй – распродает земельные участки под коммерческую застройку в только что занятом белыми городе. Профессор Горностаев, чтобы добыть хоть какие-то средства к существованию, торгует мелкой розницей с лотка вразнос, и его за спекуляцию арестовывает сначала красное ЧК, а потом – белая контрразведка.
Панова совершенно не против продажи собственных женских прелестей, но она красива, умна и решительна в деле защиты собственных интересов, не в ее правилах продешевить. Когда Грозной, с одной стороны, или полковник Кутов, с другой, пытаются использовать имеющуюся у них административную власть, чтобы «надавить» на Павлу Петровну и заполучить ее без существенных расходов, то Панова «экспроприатора» Грозного сдает комиссару Кошкину, и председателя ЧК расстреливают за мародерство на месте. А от полковника Кутова Павла Петровна избавляется более хитрым способом: она сообщает Любови Яровой, которой по приказу Кошкина необходимо узнать время и место казни жегловцев, что соответствующий приказ находится в портфеле у Кутова, и спустя некоторое время полковник был убит, а его портфель – похищен. В финале пьесы Панова достается Елисатову, у которого есть автомобиль для комфортной эвакуации из оставляемого белыми города, а также средства для эмиграции в Париж.
Основной конфликт пьесы Тренева – в отношениях супругов Яровых. До войны 1914 года Любовь и Михаил были радикалами и сторонниками революционного преображения мира. Мировая война разлучила жену и мужа, но при этом общественные убеждения и политические взгляды Любови Яровой не изменились. А вот офицер русской армии Михаил Яровой столкнулся с предательством подчиненных ему солдат, которые в бою, во время атаки стреляли ему в спину. Тяжело раненый поручик Яровой попал в германский плен, чудом выжил и навсегда излечился от революционного радикализма. Более того, как это часто бывает с ренегатами, Михаил служит делу контрреволюции столь же преданно и беззаветно, как и комиссар Кошкин – делу революции.
Любовь и Михаил по-настоящему любят друг друга и по мере развития событий не раз спасают друг друга. Каждый из них остро переживает классицистский конфликт чувства и долга, каждый из супругов до последнего надеется перетянуть другого на свою сторону. Между Любовью и Михаилом разворачивается подлинно трагический конфликт, когда каждый из них по-своему прав, но совместить эти две правды друг с другом – невозможно.
В конечном счете Любовь Яровая делает выбор в пользу революционного долга и, скрепя сердце, выдает комиссару Кошкину место, где прячется Михаил. Финальные реплики треневской драмы выглядят так:
Кошкин <...>. Спасибо, я всегда считал вас верным товарищем.
Любовь . Нет, я только с нынешнего дня верный товарищ.
К.К. Тверской в большой статье «Советская драматургия» (1935) подчеркивал, что включение в репертуар БДТ пьесы К.А. Тренева «Любовь Яровая» во многом было следствием большого успеха московской постановки этой драмы в 1926 году на сцене Московского Малого театра (премьера состоялась 22 декабря 1926 года, режиссеры И.С. Платон и Л.М. Прозоровский, художник С. И. Иванов). Так сложилось, что «Любовь Яровая» стала первой пьесой современного московского автора, появившаяся на сцене БДТ (см.: [10, с. 181–182]).
Режиссер ленинградского спектакля Б.М. Дмоховский в предпремьерной статье заявил, что при работе над пьесой «Любовь Яровая» перед постановочной командой стояла первоочередная задача создать спектакль максимально доходчивый, рассчитанный на эмоциональное восприятие самых массовых категорий зрителя. И еще постановщик спектакля «Любовь Яровая» утверждал: «<...> дать отчетливый анализ социальных сил эпохи гражданской войны – вот к чему стремились мы при работе над пьесой (курсив мой – А.Р. )» [1].
Театральный обозреватель «Красной газеты» Б.В. Мазинг в своей рецензии отмечал, что населенность пьесы Тренева большим количеством действующих лиц, а также обилие побочных сцен и эпизодов были обусловлены задачей представить широкую и обобщенную картину эпического характера, но в постановке БДТ добиться этого не удалось: «Во многих местах текст (“Любови Яровой”; курсив далее мой – А.Р. ) понят слишком прямолинейно – отсюда преобладание в спектакле излишне жанровых сцен , слишком поверхностна комедийная трактовка целого ряда действующих лиц» [4].
С.С. Мокульский первостепенное значение придавал темпо-ритмическим характеристикам сценической постановки и в своем критическом отзыве отмечал, что режиссер Б.М. Дмоховский при воплощении пьесы Тренева не смог справиться с построением ритмической структуры дей-
Общество
ствия: «Темп для спектакля взят медленный: эпизодические сцены все время отвлекают внимание от основного действия. В виду этого пропадает целый ряд острых и волнующих сцен, например – последнее объяснение Любови Яровой с мужем, в котором мелодраматическое напряжение достигает кульминационного пункта. Перегрузка спектакля внефабульными деталями делает его временами <...> растянутым и скучным (курсив мой – А.Р.)» [6].
В статье рабкоров журнала «Рабочий и театр» утверждалось, что при постановке пьесы Тренева в БДТ не удалось раскрыть эту драму во всей полноте и убедительности ее достоинств. Не смог театр и компенсировать авторские недостатки в пьесе. Наоборот, театр «<...> обнажил , выпятил эти недостатки. Постановщик пье-
Общество. Среда. Развитие № 1’2025
сы затенил самое главное и существенное в спектакле – пафос борьбы двух сил – красных и белых . Личная драма героини пьесы и вместе с тем ряд эпизодических картин <...> выпирается на первый план (курсив мой – А.Р. )» [9]. При этом рабкоры отметили, что в БДТ избежали штампа показать белых только в шаржированном виде , есть среди врагов революции и опасные противники, идейные и серьезные люди дела – именно таков Михаил Яровой. Хуже дело обстояло с обрисовкой красных: «Действующая сила у красных – это ревком. Но не веришь в его активность, организованность и сплоченность. И действительно – председатель Чека (имеется в виду Грозной; курсив далее мой – А.Р. ) тип отрицательный; Шван-дя – далеко не тот “братишка”, который вместе с тысячами таких, как он, боролся за дело революции. <...> Единственный – это Кошкин, стойкий, железный, фигура, порожденная нашей героической эпохой <...>. А где же те, ради которых и создавался ревком? И только в конце спектакля театр <...> вспоминает, что подлинная революция делалась <...> массой . И ее дают, в финале спектакля, уже победившей, со знаменами, парадной и праздничной» [9].
К.К. Тверской в статье 1935 года утверждал, что спектакль «Любовь Яровая», поставленный на сцене БДТ в 1928 году, продемонстрировал серьезное отставание режиссуры театра: «Спектакль <...> не оправдал ожиданий. <...> Драматургические дефекты: изобилие второстепенных фигур и эпизодов, заслоняющих основную сюжетную линию, – оказались незатуше-ванными. Пьеса потеряла в глубине и в красочности <...>. В части актерского исполнения особенно заметен разнобой в стиле игры (курсив мой – А.Р.)» [10, с. 182–183]. Это стало очевидным потому, что центральные роли были решены, преимущественно, в плане психологического реализма, а трактовка второстепенных персонажей была, как правило, карикатурной и шаржированной.
Важное значение в конечном художественном результате работы БДТ над «Любовью Яровой» сыграл художник-постановщик спектакля М. З. Левин. Актриса Н.И. Комаровская вспоминала, что именно на чтении пьесы Тренева в БДТ познакомилась с Моисеем Зеликовичем Левиным (1896–1946). Исполнительница роли Павлы Пановой свидетельствовала, что кто-то из слушателей чтения «Любови Яровой» обратился к Левину с вопросом, как он представляет себе декоративное оформление этого драматургического произведения. «Пьеса великолепная, – ответил Моисей Зеликович, – надо будет очень крепко подумать, как ее оформлять. Ведь впервые в советской драматургии появляется тема о расколовшемся надвое привычном человеческом существовании. Надо, чтобы зритель почувствовал, как заколебалась почва под ногами у врагов революции, как дрогнула под ними земля, как сдвинулись привычные плоскости, как неустойчивы оказались стены, которыми отгораживались люди от шума народной жизни. Все видимое и слышимое со сцены должно дать зрителю комплекс мыслей, чувств, ощущений нового советского человека” (курсив мой – А.Р. )» (цит. по: [2, с. 202]). Лексика художника-постановщика недвусмысленно выдает стремление передать экспрессионистское восприятие происходящих в жизни героев «Любови Яровой» событий.
Вполне закономерно, что Н.И. Комаровская следующим образом зафиксировала предложенное художником сценографическое решение: «Не останавливаясь на этнографических и бытовых признаках южного города, Левин создал конструкцию своеобразного сценического павильона, где нарушенные пропорции и сдвинутые плоскости создавали впечатление неопределенности , неустойчивости , тревожной , напряженной атмосферы фронтового города (курсив мой – А.Р. )» [2, с. 202–203]. Б.М. Дмоховский подчеркивал, что декорации Левина существенно отличались от оформления московской постановки «Любови Яровой» (см.: [1]).
С.С. Мокульский в критическом отзыве на спектакль высказал негативное отношение к сценическому оформлению постановки: «Макет М.З. Левина, необычайно красочный и живописный <...>, на редкость не подходит к данной пьесе. Изящные воздушные очертания декорации Левина делают ее пригодной для неоромантической драмы <...>, а ни в коем слу- чае не для советской бытовой пьесы, какой является “Любовь Яровая”« [6].
Обозреватель журнала «Рабочий и театр» М.Б. Падво отрицательно воспринял несоответствие оформления Левина и актерского исполнения , о чем критик написал так: «При сугубой реалистической актерской и режиссерской трактовке пьесы на сцене условные , неживые декорации . Любовь Яровая (без кавычек) реалистически <...> “переживает” на фоне “пострадавшего от землетрясения Крыма”: столь условно поданы Левиным скалы, дома, кипарисы. <...> Для глаза не убедительно. Зритель не может сосредоточиться. Левин мешает зрителю воспринимать правду пьесы. Впечатление: поставил Дмоховский пьесу. Писал Левин декорации, не зная, что делает Дмо-ховский. В последний момент механически соединили и показали. Разноплановость и испортила дело (курсив мой – А.Р. )» [8].
Основные сложности по воплощению «Любови Яровой» на сцене БДТ были связаны с актерским исполнением постановки. В своих воспоминаниях Н.И. Комаровская утверждала, что верный и глубокий анализ драмы Тренева, данный Левиным, не был подхвачен молодым режиссером: «Дмо-ховский увлекся жанровой стороной пьесы , разработкой отдельных характеров . <...> Режиссер и художник <...> шли круто расходившимися путями (курсив мой – А.Р. )» [2, с. 203].
Б.В. Мазинг в своем критическом отзыве также отметил целый ряд недоработок постановщика спектакля Дмохов-ского. Не было сделано попыток углубить сценические образы, допущены ошибки в актерском исполнении. Положительно театральный обозреватель высказался об игре О.Г. Казико (Любовь Яровая), Н.И. Комаровской (Панова), В.Я. Софронова (Кошкин), О.Л. Коханского (Елисатов) и других (см.: [4]).
С.С. Мокульский в большой критической статье дал общую оценку исполнения ролей, которое, за небольшим исключением, «<...> удовлетворительно и продолжает линию, впервые намеченную БДТ в постановке “Мятежа” – линию внимательной и свободной от штампов разработки персонажей эпохи гражданской войны. На первом месте здесь нужно поставить Софронова, давшего превосходную фигуру комиссара Кошкина, лишенную всякой иконописно-сти и не боящуюся сочетать трогательное со смешным. Роль Любови Яровой в исполнении Казико прозвучала искренно и убедительно (курсив мой – А.Р.)» [6]. Вместе с тем, далеко не все в актерской игре устроило Мокульского, особенно – в плане исполнения Н. Ф. Монаховым роли матроса-»бра- тишки»: «Монахов в роли матроса Шванди, несмотря на оглушительный успех, дал гораздо меньше, чем можно было от него ожидать. Выдвинув на первый план коми-кование и простецкие черты Шванди, Монахов затенил в нем фигуру бойца – революционера, который не только шуточки шутит, но и делает величайшую в мире революцию (курсив мой – А.Р.)» [6].
Резко критически по отношению к исполнению ролей в спектакле БДТ был настроен М.Б. Падво, особенно – при воплощении представителей белого движения: «<...> только что всерьез, при полном освещении, показали парад, манифестацию (при вхождении белых частей в город; курсив далее мой – А.Р. ). Передернуло. Любование белыми. Ставка на внушительность и величественность . И вот... другая... Вместо полковника – гротесковый око-лодочный . Вместо врагов – живгазетные , смешные фигуры. Что же это? Ведь нельзя же, право, при рассматривании “белой половины” оглядываться на Булгакова, да и нельзя перегибать палку и делать врагов смешными и неубедительными» [8].
А.И. Маширов утверждал: «Матрос Швандя в исполнении Монахова очень мало похож на боевого, размашистого и в то же время сообразительного и расторопного матроса» [5]. И в отношении Комаровской критик отметил: «<...> несмотря на всю ее тщательную игру, в ней недостает обворожительности и пленительности побывавшей в Парижских салонах белогвардейки» [5]. Сам исполнитель роли «братишки» Н.Ф. Монахов в своих мемуарах дал играемому им персонажу такую характеристику: «Швандя был анархичен, ухарски смел» [7, с. 217]. Н.И. Комаровская вспоминала: «В “Любови Яровой” я играла Панову, женщину, в которой под обаятельной, пленительной внешностью скрывается злейший враг советской власти. Весь ход внутренней жизни Пановой, ее побуждения и поступки давали богатый актерский материал. Но недостаточная четкость в расстановке режиссером классовых сил привела к полной нивелировке сценических образов, и в частности образа Пановой» [2, с. 203].
М.Б. Падво следующим образом давал общие оценки итогов постановки «Любови Яровой» на сцене БДТ: «Недостатков уйма. И главный – не проработали пьесу, не продумали, не вдумались. Скользили по поверхности. Не задумывались над внутренним смыслом пьесы – строили занимательный спектакль. А занимательность разбилась о медленный, тягучий темп, не свойственный столь динамичной пьесе,
Общество
Общество. Среда. Развитие № 1’2025
как “Любовь Яровая”« [8]. Критик большую часть недостатков спектакля объяснял молодостью и неопытностью режиссера Б.М. Дмоховского. Что же касается самой сценической версии пьесы Тренева, то, по мнению М.Б. Падво, «<...> публика пойдет. <...> Зритель простит недостатки постановки ради пьесы» [8].
Н.И. Комаровская в своих воспоминаниях зафиксировала ряд трудностей, которые возникли при сценическом воплощении драмы Тренева: «<...> актерам было непривычно репетировать в созданной сценической конструкции: как двигаться, как играть в этом нагромождении плоскостей ? И понадобилось немало усилий со стороны Левина, чтобы убедить исполнителей в необходимости найти иные формы пластического рисунка , отвечающие конструкции сцены. Должна признаться, что покосившиеся стены и падающие навесные потолки не скоро стали для меня привычными и удобными (курсив мой – А.Р. )» [2, с. 203–204]. При этом исполнительница роли Пановой вынуждена была признать, что постановка «Любови Яровой» была принята зрителем и прочно утвердилась в репертуаре БДТ, а причинами тому явились «<...> прекрасная пьеса Тренева и декоративное оформление Левина. Оно было настолько новым и убедительным, что каждая картина встречалась горячими аплодисментами» [2, с. 204].
К.К. Тверской несомненный успех спектакля также связывал с достоинствами драмы Тренева, а не с качеством сценической постановки. И делал следующий вывод: «Переход к советской тематике <...> потребовал иной подготовки режиссуры, иного понимания спектакля всем коллективом работников, чем это имело место в прежней практике БДТ» [10, с. 183–184].
М.Н. Любомудров в статье «Режиссерские искания Большого драматического театра во второй половине 1920-х годов (1926–1932)», подводя итоги работы театра по переносу пьесы Тренева на сцену
Список литературы Спектакль Б. М. Дмоховского «Любовь Яровая» (БДТ, 1928): классицистский конфликт между чувством и долгом на советском драматургическом материале
- Д-ский (Дмоховский Б.М.). "Любовь Яровая" в БДТ // Рабочий и театр. - 1927, 4 окт., № 40. - С. 19.
- Комаровская Н.И. Виденное и пережитое: Из воспоминаний актрисы. - Л.; М.: Искусство, 1965. - 240 с.
- Любомудров М.Н. Режиссерские искания Большого драматического театра во второй половине 1920-х годов (1926-1932) // Театр и драматургия. Труды ЛГИТМиК. Вып. 5. - Л.: ЛГИТМиК, 1976. - С. 118-152.
- Мазинг Б. (Мазинг Б.В.). "Любовь Яровая" // Красная газета. - 1927, 6 окт.
- Маширов А. (Маширов А.И.). Еще раз о "Любови Яровой" // Рабочий и театр. - 1927, 18 окт., № 42. - С. 7.
- Мокульский С. (Мокульский С.С.). "Любовь Яровая" в БДТ // Жизнь искусства. - 1927, 11 окт., № 41. - С. 12.
- Монахов Н.Ф. Повесть о жизни. - Л.; М.: Искусство, 1961. - 299 с.
- Падво Мих. (Падво М.Б.). "Любовь Яровая" // Рабочий и театр. - 1927, 11 окт., № 41. - С. 8-9.
- Рабкоры о "Любови Яровой" // Рабочий и театр. - 1927, 1 нояб., № 44. - С. 9.
- Тверской К.К. Советская драматургия // Большой драматический театр. - Л.: Изд-во ГБДТ, 1935. - С. 155-242.