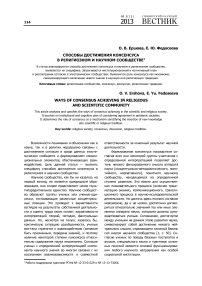Способы достижения консенсуса в религиозном и научном сообществе
Автор: Ершова О.В., Федосеева Е.Ю.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 3 (13), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются способы достижения консенсуса в научном и религиозном сообществе, выявляется их специфика. Затрагивается институциональный и когнитивный план в рассмотрении согласия в эпистемических сообществах. Выявляется роль консенсуса как механизма, санкционирующего включение нового знания в научную или религиозную традицию.
Религиозное сообщество, консенсус, дискуссия, религиозная традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14113781
IDR: 14113781
Текст научной статьи Способы достижения консенсуса в религиозном и научном сообществе
Возможности понимания и объяснения как в науке, так и в религии неразрывно связаны с достижением согласия в среде данных эписте-мических сообществ и формированием конвенциональных элементов, обеспечивающих взаимодействие. Цель данной статьи — выявить специфику способов достижения консенсуса в религиозном и научном сообществе.
Научное сообщество, как бы ни казалось на первый взгляд, не является однородным образованием, оно скорее представляет некое муль-типарадигмальное единство. Научное сообщество образуют группы ученых или ученые-одиночки, отстаивающие различные концептуальные позиции. Это приводит к вариативности взглядов на результаты собственной деятельности и оценку труда своих коллег, вариативности интерпретаций теорий, методов, фактуальных данных. Но, несмотря на такую, казалось бы, критическую ситуацию разобщенности, ученые все-таки стремятся к взаимодействию (желание быть признанным, передача знаний), и поэтому наличие некоторой степени консенсуса относительно содержания науки несомненно. Согласие ученых с определенной интерпретацией компонента научного знания во многом связано с их осознанием взаимозависимости и совместной ответственности за конечный результат научной деятельности.
Формирование консенсуса посредством согласия всех или некоторой группы участников с определенной интерпретацией позволяет достичь некоего фиксированного смысла аппарата науки (концептуально-методологического, понятийного, нормативного), понятного научному сообществу, находящемуся на определенной ступени развития. Это важно для осуществления познавательного процесса (включая трансмутацию знания), коммуникационного, трансляционного процесса в научно-исследовательской деятельности. Но достичь здесь полного согласия невозможно, да и не нужно, достаточно договориться относительно значений тех или иных элементов аппарата науки, которыми должны руководствоваться ученые. Соглашение, достигнутое между учеными на данном этапе развития науки, символизирует собой достижение некоего нейтрального смысла, отражающего сложный баланс сил внутри научного сообщества [1, с. 50]. Согласие ученых по поводу базовых постулатов и аксиом, специального языка и трактовок основных понятий является основой функционирования любого научного направления как особой социальной институции.
Достигнутое согласие в отношении аппарата науки внутри естественно-научного сообщества может быть пересмотрено. Закрепление новых значений происходит посредством того, что идеи отдельных ученых или групп получают развитие в исследованиях их коллег, активно используются в практике научных исследований, фиксируются в дисциплинарных учебниках, в направлениях исследований. Такой способ достижения согласия можно назвать когнитивным. Когда же научная идея получает признание большей части научного сообщества, это выражается в награждении автора премией или создании в честь его премии, в проведении конгрессов, посвященных этим идеям, в праздновании юбилея автора. Данный способ можно назвать социальным.
Механизм достижения консенсуса в естественно-научном сообществе хотелось бы проиллюстрировать на примере признания открытия неевклидовой геометрии. Так, формирование согласия в естественно-научном сообществе в отношении концепции неевклидовой геометрии заняло достаточно длительный период времени. Открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии в 20-х годах XIX века оставалось почти незамеченным до 60-х годов XIX века. хотя его статья о «Воображаемой геометрии» вышла в свет в 1835—1838 гг. в «Ученых записках» Казанского университета, затем была опубликована статья во французском журнале в 1837 году, а в 1840 году издана на немецком языке книга. Но только в 60—70-е годы XIX века наметился подъем интереса в среде ученых к идеям неевклидовой геометрии. Катализатором когнитивного интереса ученых к концепции Н. И. Лобачевского стала опубликованная переписка К. Ф. Гаусса с Г. Х. Шумахером, в которой К. Ф. Гаусс одобрял работы Н. И. Лобачевского. Этот факт имел определенное значение, так как репутация К. Ф. Гаусса в этот период в естественно-научном сообществе была необычайно высокой, его называли «королем математиков» [6, c. 105]. Авторитет К. Ф. Гаусса был необходим сторонникам Н. И. Лобачевского для обоснования принятия его концепции геометрии и привлечения внимания математиков к новой геометрии. Кроме того, К. Ф. Гаусс высказал свое согласие с работой Н. И. Лобачевского косвенным образом, рекомендовав его к избранию иностранным членом-корреспондентом Геттингенского королевского научного общества.
Высокой гносеологической оценке научным сообществом идей Н. И. Лобачевского препятствовал ряд факторов. Во-первых, это неясность изложения концепции Н . И . Лобачевского; во-вторых, не была подмечена связь геометрии Н. И. Лобачевского с работой К. Ф. Гаусса по геометрии поверхности постоянной отрицательной кривизны (мемуары К. Ф. Гаусса «Общие исследования кривых поверхностей» опубликованы в 1827 году); в-третьих, отсутствие широкого научного общения между отдельными университетами России. Но тем не менее в 40—50-е годы XIX века количество согласных и понимающих концепцию геометрии Н. И. Лобачевского постепенно увеличивалось. Интерес к этим идеям подкреплялся развитием науки, приносившим все новые и новые доказательства огромного значения идей Н. И. Лобачевского.
Распространению идей Н. И. Лобачевского в среде ученых препятствовало и то, что авторитетнейшие ученые отечественного математического сообщества были их противниками. Например, отдельные профессора (М. В. Остроградский, В. Я. Буняковский) публиковали отрицательные рецензии на работу Н. И. Лобачевского. Многие обвиняли Н. И. Лобачевского в отходе от евклидовского канона, что делало научные идеи Н. И. Лобачевского непонятными для современников, которые были убеждены в единственности евклидовой геометрии, хорошо увязывавшейся у ряда математиков с приверженностью к кантовской концепции пространства.
В конце 60-х годов XIX века в России и в Западной Европе появились математики, занимавшиеся активной разработкой наследия Н. И. Лобачевского и распространением его в среде ученых. Эти ученые (многие из них были авторитетными и известными учеными своего времени) давали высокую оценку работе Н. И. Лобачевского в своих рецензиях; переводили его сочинения на другие языки, переводили авторитетных ученых со схожими концептуальными идеями; публиковали биографии Н. И. Лобачевского в научных журналах; проводили дебаты по поводу его исследований неевклидовой геометрии; писали мемуары по тематике неевклидовой геометрии. Итальянский математик Дж. Баттальини изложил геометрию Н. И. Лобачевского в привычных символах математического анализа, так как новаторство Н . И . Лобачевского в математической символике встретило непонимание у математиков [7, c. 200]. Другие ученые (например, Э. Бельтрами) доказали логическую непротиворечивость геометрии Н. И. Лобачевского в форме, достаточно убедительной для большинства, в силу чего к неевклидовой геометрии было привлечено общее внимание математиков, то есть была предпри- нята попытка к достижению согласия между учеными в оценке новой геометрии. Таким образом, все перечисленные механизмы способствовали достижению понимания и консенсуса между учеными относительно концептуального новшества.
В 60—70-х годах трудности в признании геометрии Н. И. Лобачевского в математической среде были преодолены, в том числе и эпистемологическая установка о единственно правильной евклидовой геометрии. В 60—70-х годах ясно обрисовалось всемирно-историческое значение работ Н. И. Лобачевского, была оценена их плодотворность и эвристичность, они получили всеобщее признание, что было институционально закреплено в когнитивном и социальном плане: в когнитивном плане оценена когнитивная значимость, а в социальном плане институциональное соглашение проявилось в учреждении международной премии имени Н. И. Лобачевского, праздновании 100-летия Н. И. Лобачевского, организации фонда Лобачевского — признании научных заслуг геометра на уровне всего естественно-научного сообщества.
Обратимся теперь к исследованию специфики консенсуса в религиозном сообществе. В качестве его наглядной модели возьмем профессиональное богословское сообщество, так как в нем явно прослеживается консенсус. Предметом дискуссий и споров в религиозном сообществе также в основном являются нормы, или догмы [3, c. 4—6]. В религии существует единая база знаний — традиция (свод догм), зафиксированная в Священных Текстах и Священном Предании — устной и письменной традиции, созданной богословами, не зафиксированной в Священных Текстах. Догмы и нормы составляют базисные положения, характеризующие данную религию, в которые с необходимостью должны верить члены этого сообщества. Если мы обратимся к истории религии и к трудам профессиональных теологов, то увидим, что возможны теологические (экзегетические) расхождения относительно правильной интерпретации некоторых базисных суждений религии (догмы и нормы). В этом случае полный консенсус недостижим, чаще всего возникает договор об употреблении определенных положений. Интересно отметить, что кардинальный пересмотр базовых понятий в религии невозможен, в отличие от науки. В религии уже существует раз и навсегда зафиксированная абсолютная истина, которую богословы могут лишь по-новому интерпретировать, комментировать и пытаться анализировать с точки зрения совре- менности. Эта особенность религиозного знания накладывает отпечаток на способы достижения консенсуса в богословском сообществе (доказательность и аргументированность положений).
Иллюстрацией поиска согласия в религиозном сообществе может стать дискуссионная ситуация, возникшая между официальной Православной Церковью и рядом околоцерковных учений («имяславие»), прославлявших формулу «Имя Божие есть Сам Бог» [5]. В дискуссиях при попытках нивелирования противоречащей позиции богословы исследовали необходимые им части из Священного Писания, обращались к трудам Святых Отцов, то есть апеллировали к их авторитету и авторитету Церкви, пользовались методом логического рассуждения в попытках доказательства своей правоты. Затянувшийся спор был разрешен при вмешательстве органов высшей власти. Так, на заседании российского Святейшего Синода под председательством митрополита Санкт-Петербургского Владимира (Богоявленского) имяславие было определено как неправославное учение. После Святейшего Синода сторонники имяславия были насильно вывезены с Афона и разосланы по разным областям с запретом проводить богослужения. Таким образом, согласие в религиозном сообществе было достигнуто не когнитивным способом, а институциональным решением более авторитетных оппонентов — представителей официальной Церкви: высокопоставленных церковных и государственных чиновников. Как можно заметить, его завершением также послужило применение физического насилия. Данный способ достижения единомыслия довольно часто встречается в религиозных конфликтах. Это во многом обусловлено исходными целями самой религии, так как, в отличие от научной формы познания, в религии, при определенной направленности на поиск истины и приобретение нового знания, основной целью остается защита уже существующей традиции. Главным хранителем этой истинной традиции позиционирует себя официальная Церковь. Это коренным образом отличает научное знание от религиозного, которое оказывается замкнутым в своих конфессиональных рамках и во многом предопределяет исход дискуссии.
Ортодоксальность и косность религиозной традиции не означают, что она не наполняется новыми знаниями. В религиозном сообществе так же, как и в научном, происходит включение нового знания в религиозную традицию и формируется консенсус относительно выдвинутых положений. К примеру, включение новых дан- ных в православную религиозную традицию происходит путём обсуждения этих сведений на вселенских и поместных церковных соборах. С появлением в России высшего духовного образования в XIX веке решение по включению в традицию того или иного богословского труда происходило в основном на академических советах в духовных академиях. В зависимости от решения совета автору труда присваивалась степень бакалавра, магистра или доктора богословия. Однако всё было не так просто. Очень часто в этот процесс вмешивался Святейший Синод, который также являлся на то время главным органом научно-богословской аттестации и мог препятствовать решениям академических советов. Таким образом, в данном случае согласие в религиозном сообществе также достигается институциональным способом, но при этом главными критериями в принятии тех или иных убеждений становятся когнитивные характеристики.
Продолжая разговор о включении богословских трудов в религиозную традицию, можно сделать вывод, что если труды утверждаются на Ученых советах, то институциональное согласие религиозного сообщества выражается включением данного труда в состав Священного Предания . Но существует много и таких сведений (например, обычаев), которые не были признаны собраниями религиозного сообщества, но им следует определённое число верующих. Подобные сведения, по мнению иерея Олега Да-выденкова, можно отнести к разряду Церковного Предания (это местные церковные обычаи, отдельные церковные сочинения, не получившие единогласного одобрения совета, многие истории из житий святых и так далее) [4, c. 21]. Таким образом, из вышесказанного следует, что консенсус может формироваться, во-первых, на уровне официальной религиозной традиции, находящейся под контролем профессионального религиозного сообщества; во-вторых, в отношении сведений, находящихся на уровне творчества отдельных мыслителей или частного богословского мнения, имеющих в числе сторонников в большинстве своем простых верующих, так как эти сведения либо еще не проверены профессиональным религиозным сообществом, либо в чём-то не соответствуют учению Церкви. Во втором случае молчаливый консенсус в среде религиозно верующих достигается практикой применения этих положений в жизни.
В научном сообществе новое знание при вписывании в существующую систему, чтобы быть достаточно убедительным для ученых, должно состоять из обоснованных утверждений, опирающихся на экспериментальные, опытные факты либо теоретические аргументы. Богословские науки, с одной стороны, изначально опираются на непогрешимый внешний авторитет, принимая необосновываемые положения, полученные из личного откровения и мнений создателей учения. С другой стороны, профессиональное богословское сообщество в разрешении эпистемического вопроса применяет все научные методы исследования, доказательности, аргументации, предоставления полученного знания.
Богослов в процессе убеждения членов религиозного сообщества в правильности своей позиции может опираться на научные методы, в том числе и на научную веру. Именно здесь, как и в науке, на стадии образования теории, её доказательства огромную роль играет вера (в научном смысле), которая является психологической установкой учёного в истинность его результата. Это не «слепая» вера, признающая всё, что связано с незыблемой традицией, а вера, которая, как и в науке, требует для себя некой рациональной доказательной базы, на основе которой может продолжаться развитие и доказательство новой научной или религиозной теории. В качестве иллюстрации можно привести многовековую полемику в богословии на тему исхождения Святого Духа. Этот эпистемиче-ский конфликт между католической и православной церковью пытались разрешить на различных конференциях, в трудах и переписках известнейших богословов, а также в диссертационных работах в духовных академиях. В процессе аргументации богословы применяли в своем анализе исторический, конструктивногенетический, сравнительный, критический, герменевтический и логический методы исследования. Но наряду с этим присутствует религиозный опыт, религиозная вера в Откровение — Священное Писание и Священное Предание, то есть вера в авторитет.
Специфику аргументационной конструкции задает именно религиозная вера. Религиозная вера предполагает веру в высший (всеведую-щий и всемогущий) и безусловный авторитет, тогда как для научной веры это не существенно. В аргументационной конструкции при ссылке на абсолютный авторитет верующие полагают, что он является источником истины и может служить объяснением для всех явлений в этом мире [2, c. 106]. Кроме того, в религии в отношении абсолютного авторитета достижим полный консенсус, тогда как в научном сообществе дос- тичь полного консенсуса в отношении единого эпистемического авторитета достаточно проблематично или практически невозможно. В науке присутствует скорее неполный консенсус или консенсус большинства в отношении авторитета какого-нибудь известного ученого или собирательного авторитета научного сообщества (например, математиков, физиков, биологов и т. д.).
Вера в абсолютный авторитет как источник абсолютной истины определяет тот факт, что обоснование религиозных положений предполагает оценочные суждения, согласно которым то, что «было предметом божественного откровения, обладает более высокой ценностью, нежели что-либо другое, совместно с верованием, что некоторые суждения (принадлежащие к религиозному кредо) были открыты (даже посредством и с участием человека) Богом» [2, c. 95]. Другие оценочные основания, обосновывающие принятие религиозных положений, апеллируют к тому, что они являются условием для последней цели. Наряду с аргументами, апеллирующими к личности верующего, присутствуют эстетические аргументы, обращенные к красоте и порядку Вселенной, как свидетельству правоты религиозных положений. В науке также присутствуют в аргументационной конструкции оценочные основания, но они могут носить как субъективный (например, ссылка на известного ученого), так и объективный характер (например, одна гипотеза имеет больше эмпирических подтверждений, чем другая).
Таким образом, в религии имеют место быть различные способы достижения согласия — от наукообразного до специфически религиозного. Это во многом обусловливает схожесть способов поиска согласия в сфере религии и науки, но, говоря о схожести, не стоит забывать и об их специфике и, следовательно, принципиальной несводимости друг к другу. Религию и науку полностью сводить друг к другу не стоит, поскольку это две принципиально разные формы познания.
-
1. Белов В. А. Ценностное измерение науки. М. : Идея-Пресс, 2001. 220 с.
-
2. Вайнгартнер П. Сходство и различие между научной и религиозной верой // Вопр. философии. 1996. № 5. С. 90—109.
-
3. Зеленков М. Ю. Религиозные конфликты: проблемы и пути их решения в начале XXI века (политико-правовой аспект). Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2007. 244 с.
-
4. Иерей О. Давыденков. Догматическое богословие : учеб. пособие. М., 2006. 200 с.
-
5. Имяславие // Древо. Открытая православная энциклопедия. URL: http://drevoinfo.ru/articles/ 393.html.
-
6. Клайн М. Математика. Утрата определенности / пер. с англ. А. Ю. Данилова. М. : Мир, 1984. 350 с.
-
7. Хилькевич Э. К. Из истории распространения и развития идей Н. И. Лобачевского в 60—70-х годах XIX столетия // Историко-методологические исследования. Вып. II. М. : Наука, 1949. С. 168—231.
Список литературы Способы достижения консенсуса в религиозном и научном сообществе
- Белов В. А. Ценностное измерение науки. М.: Идея-Пресс, 2001. 220 с.
- Вайнгартнер П. Сходство и различие между научной и религиозной верой//Вопр. философии. 1996. № 5. С. 90-109.
- Беленков М. Ю. Религиозные конфликты: проблемы и пути их решения в начале XXI века (политико-правовой аспект). Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2007. 244 с.
- Иерей О. Давыденков. Догматическое богословие: учеб. пособие. М., 2006. 200 с.
- Имяславие//Древо. Открытая православная энциклопедия. URL: http://drevoinfo.ru/articles/393.html.
- Клайн М. Математика. Утрата определенности/пер. с англ. А. Ю. Данилова. М.: Мир, 1984. 350 с.
- Хилькевич Э. К. Из истории распространения и развития идей Н. И. Лобачевского в 60-70-х годах XIX столетия//Историко-методологические исследования. Вып. II. М.: Наука, 1949. С. 168-231.