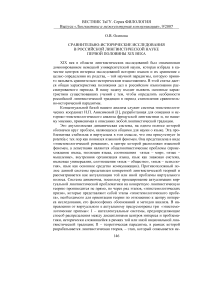Сравнительно-исторические исследования в российской лингвистической науке первой половины ХIХ века
Автор: Осипова Ольга Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Обзоры
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120468
IDR: 146120468
Текст статьи Сравнительно-исторические исследования в российской лингвистической науке первой половины ХIХ века
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКЕ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА
ХIХ век в области лингвистических исследований был ознаменован доминированием немецкой университетской науки, которая избрала в качестве центров интереса исследований историю языков и их сравнение с целью определения их родства, – той научной парадигмы, которую принято называть сравнительно-историческим языкознанием. В этой статье дается общая характеристика положения дел в российском языкознании рассматриваемого периода. В нашу задачу входит выявить основные харак-тристики существовавших учений с тем, чтобы определить особенности российской лингвистической традиции в период становления сравнительно-исторической парадигмы.
Концептуальной базой нашего анализа служит система эпистемологических координат Н.П. Анисимовой [1], разработанная для описания и историко-эпистемологического анализа фрнцузской лингвистики и, по нашему мнению, применимая к описанию любой лингвистической традиции.
Это двухполюсная динамическая система, на одном полюсе которой обозначен круг проблем, являющихся общими для науки о языке. Эта проблематика стабильна и виртуальна в том смысле, что она присутствует in potentia с тех пор как появился языковой феномен. Она представлена в виде «эпистемологической ромашки», в центре которой расположен языковой феномен, а лепестками являются общелингвистические проблемы (происхождение языка, эволюция языка, соотношения «язык – мир», «язык – мышление», внутренняя организация языка, язык как знаковая система, языковые универсалии, соотношения «язык – общество», «язык – психология», язык как основное средство коммуникации). Противоположный полюс данной системы представлен конкретной лингвистической теорией и рассматривается как актуализации той или иной проблемы виртуального полюса. Система динамична, поскольку проецирование актуализации виртуальной лингвистической проблематики на конкретную лингвистическую теорию производится не прямо, но через ряд этапов, «эпистемологических призм», которые представляют собой этапы «эпистемологического пробега», необходимого для ориентации теории по отношению к центру интереса исследования, его философских обоснований и методов анализа. В направлении от виртуального к актуальному предусмотрены три «эпистемологические призмы»: I – интеллектуальные системы, предопределяющие способ распределения между дисциплинами центров интереса и проблематики, исторически сложившейся в рамках той или иной национальной лингвистической традиции; II – теоретическая парадигма, в рамках которой разрабатывается лингвистическая теория, – этап, который описывается ис- торически как доминирование той или иной проблематики в определенную историческую эпоху, определяющий также методы анализа, присущие тому или иному этапу эволюции лингвистического знания; III – призма вариативности, ориентирующая теорию с позиций «угла зрения» на проблему, направления исследования, преимущественного уровня языковой системы, на котором проводится исследование. Для нашего исследования наиболее релевантными являются призма теоретической парадигмы (определяющая доминирующие проблемы и методы анализа) и призма вариативности (ориентирующая теорию в отношении направления исследования и уровня языковой системы, на котором проводится анализ). О первой призме мы можем констатировать, что для всех исследуемых теорий речь идет об этапе становления компаративизма. На уровне призмы вариативности мы проследим особенности трактовки российскими лингвистами традиционных компаративистских проблем.
В работах многих российских лингвистов первой половины ХIХ в. была отражена логико-грамматическая точка зрения на язык, затрагивались многие проблемы теоретического языкознания. Так, впервые в истории языкознания И.С. Рижский рассматривает то явление в языке, которое в дальнейшем у В. Гумбольдта получило название «внутренней формы слова». Исходя из существования общих логических законов, которые отражают свойства человеческой мысли, И.С. Рижский говорит о возможности понимания иностранных языков и их изучения [2].
Впервые в языкознании Л.Г. Якоб объясняет язык через определение знака вообще и его роли в умственной жизни человека. В его концепции язык и мышление взаимно обусловливают друг друга [7]. Он различает такие понятия, как язык и речь, понятия, прочно вошедшие в русскую лингвистику в 70-х гг. ХIХ в. благодаря работам А.А. Потебни и И.А. Бодуэна де Куртенэ, а в европейскую лингвистику – лишь с выходом «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра. Идеи, высказанные Л.Г. Якобом, намного опережали состояние науки о языке в начале ХIХ в.
Из общетеоретических рассуждений Н.И. Греча особое внимание исследователей привлекают рассмотрение языка с исторической и статической (философской) точек зрения, указание на социальную природу языка. Лингвиста интересовала и проблема происхождения языка, он придерживался звукоподражательной теории происхождения языка [4].
Широко распространенной в то время концепции двух периодов в развитии языка – периода расцвета языковых форм и периода их упадка – И.И. Давыдов противопоставляет тезис о языке как непрерывно развивающейся категории [5]. Он указывает на коммуникативную функцию языка, признает тесную связь между языком и мышлением, но связь эта у него выступает в плане отождествления логических категорий и языковых явлений.
В начале ХIХ века в языкознание проникают новые идеи из стремительно развивающихся естественных наук, астрономии, физики, химии. В науке утверждается и получает распространение принцип историзма. Характеризуя этот период, знаменитый французский языковед А. Мейе писал:
«Методичное исследование исторических причин – вот то самое оригинальное и новое, чем мы обязаны истекшему столетию. Метод исторического объяснения был созданием ХIХ в. (и уже, в некоторой мере, конца XVIII-го). Земная кора, организмы, общества и общественные учреждения были осознаны как продукт исторического развития …, о котором можно составить себе представление, только наблюдая и определяя, на основании имеющихся данных и со всею возможною точностью, последовательность и взаимодействие отдельных фактов, составляющих это развитие. И только на основе собранных таким образом наблюдений начинают складываться общие теории развития организмов и обществ. Сравнительная грамматика составляет часть предпринятых в ХIХ в. систематических исследований исторического развития явлений природы и общества» [6: 201].
В языкознании принцип историзма воплощается в методе сравнения языков, а в русском языкознании начала ХIХ в. прочно утверждается мысль о необходимости изучения русского языка в сравнении с другими европейскими языками. Логицизм и рационализм всеобщей грамматики дополняются сравнительным походом к изучению языков.
Развитию сравнительного изучения языков в России в начале ХIХ в. способствовал интерес к изучению памятников церковнославянской письменности. Изучение языка памятников и сопоставление его с русским языком начала ХIХ в. позволило проследить историю языка, отделить позднейшие формы от более ранних. Сравнение русского языка с другими индоевропейскими языками (греческим, латинским, санскритом, церковнославянским), дополненное изучением его истории, подготавливало становление сравнительно-исторического языкознания, которое возникло в России одновременно с появлением этого направления на Западе.
В разработке сравнительно-исторического метода в России, и особенно в становлении славянского сравнительного языкознания, значительную роль сыграли работы А.Х. Востокова, И.И. Срезневского, Ф.И. Буслаева.
Рассматривая историю языка, И.И. Срезневский придерживается широко распространенной в сравнительно-историческом языкознании того периода романтической тоерии о двух периодох в истории языка. Первый период есть период развития форм языка, когда развивается правильная система звуков и сочетания их в отдельных словах и предложениях, когда все подчинено логической связанности и стройности. Во второй период, период превращений, прежняя стройность форм языка расстраивается, происходит постепенное падение прежних форм, замена их другими. Однако И.И. Срезневский пытается и бороться против этой надуманной схемы. Он не согласен с тем, что период превращений – это порча языка. Напротив, скорее это развитие, только уже не самого языка в его материальной форме, а мысли, выражающейся в языке. Среди обстоятельств, которые воздействуют на язык, он выделяет внешние (т.е. связи народа с другими народами – промышленные, умственные, политические, религиозные)
и внутренние (выявление действующих в языке противоречий, выяснение того, какие грамматические формы необходимы в языке, а без каких можно обойтись, какие явления в языке случайные).
И.И. Срезневский убежден в существовании общего праязыка у определенной семьи языков. У многих народов одного происхождения, говорит он, у многих родственных племен язык по первоначальному своему образованию один и тот же. Поэтому установление родства языков важно не только для выявления общности их происхождения, но и для выявления их природы, их естественных свойств, всем однаково общих. От общего языка другие языки обособляются путем дифференциации.
Сравнение языков, по мнению И.И. Срезневского, необходимо дополнить изучением их истории. Только история языка может показать, каким был язык народа в момент отделения от той или иной языковой общности и как он изменился у данного народа.
Теоретической основой лингвистических взглядов Ф.И. Буслаева в значительной мере послужили труды В. Гумбольдта, Ф. Боппа и Я. Гримма. «Сравнительная грамматика Боппа и исследования Гримма – писал Буслаев, – привели меня к тому убеждению, что каждое слово первоначально выражало наглядное изобразительное впечатление и потом уже перешло к условному знаку отвлеченного понятия» [3: 208]. Под влиянием романтических взглядов Я. Гримма Ф.И. Буслаев идеализирует старину, создает романтико-историческую концепцию языка, которую старается применить к русскому языку. Своеобразие этой концепции заключалось в том, что она была лишена социологических основ. В рецензии на книгу «Мысли об истории русского языка» Срезневского Ф.И. Буслаев писал, что история языка не может иметь право вмешиваться в историческое развитие народа, ее дело определять, что такое-то слово в своем собственном значении может соответствовать такому-то воззрению на мир и человека.
При понимании языка как результата предшествующего длительного исторического развития Ф.И. Буслаева не удовлетворяли выводы всеобщей, или философской, грамматики. Он указывал, что философская грамматика «без сравнительного и исторического запасу» весьма несостоятельна. Положительные стороны всеобщей грамматики он видит в том, что она определяет язык как органическое, живое произведение человеческого духа, признает теснейшую связь между мифологией («этимологией») и синтаксисом, точно определяет части речи и систематически разрабатывает синтаксис. Одностронность философской грамматики заключается в том, что она видит в языке только логику, причем не частную логику того или другого языка, а логику всеобщую. Тем самым философская грамматика упускает из виду все многообразие жизни языка. Лишь историческая грамматика, по мнению Ф.И. Буслаева, может познакомить исследователя с внутренними силами и богатством языка. Хотя «Опыт исторической грамматики русского языка» не только завершил длительный период господства идей всеобщей грамматики в русском языкознании, но и показал все противоречия и недостатки логико-грамматического подхода к языку, тем не менее Ф.И. Буслаев не смог до конца освободиться от влияния логицизма, особенно при рассмотрении синтаксических категорий. Он все-таки стремился сравнительное и историческое рассмотрение языковых явлений сочетать с логическим.
Следуя широко распространенным романтико-философским построениям теории языка, Ф.И. Буслаев, как и И.И. Срезневский, выделял два периода в развитии языка: древнейший и позднейший. В древнейшем периоде «выражение мысли наиболее подчиняется живости впечатления и свойствам разговорной речи». Для этого периода характерна сознательность в употреблении грамматических форм. В новейший период творчество в языке уже завершается и сам язык оказывается организмом уже умирающим. Если в древнейший период важнейшей частью грамматики является морфология («этимология»), то в позднейший период наступает господство синтаксиса.
Ф.И. Буслаев считает, что древний период в жизни языка можно изучать путем генетическим, отсюда – необходимость исторического исследования. А в позднюю эпоху, когда язык подчиняется отвлеченной логике, преобладает логический принцип и в изучении языка. В этом сочетании сравнительно-исторических исследований с логическими началами в изучении языка проявляется двойственность и непоследовательность лингвистического мировоззрения Ф.И. Буслаева. Метафизическое представление об историческом развитии языка у Ф.И. Буслаева проявляется в том, что история языка, например, русского, преимущественно состоит в непрестанном разрушении первоначальных, основных форм, в постепенном удалении народного сознания от смысла, содержащегося в самом слове.
В рассмотрении общих вопросов языка Ф.И. Буслаев, ссылаясь на В. Гумбольдта и К. Беккера, исходит из того, что язык есть живой организм. Организмом же он называет и индоевропейский праязык. Ф.И. Буслаев указывает на то, что «все построения языка, от отдельного звука до предложения и сочетания предложений, представляет нам живую связь отдельных членов, дополняющих друг друга и образующих одно целое, которое в свою очередь дает смысл и значение каждому из этих членов» [3: 334]. Такое отношение между этими членами он называет организмом языка, но несомненно, что Ф.И. Буслаев склоняется к пониманию языка как системы.
Принимая положение И.И. Срезневского о том, что в языке находятся элементы, образованные в различное время, Ф.И. Буслаев тоже склонен признать наличие в языке разновременных явлений. И с этой точки зрения история языка состоит в теснейшей связи с современным его состоянием, ибо восстанавливает и объясняет то, что теперь употребляется бессознательно. Так в русском языкознании утверждается очень важное положение о тесной связи исторического (диахронического) и соременного (синхронного) состояний языка. Здесь следует упомянуть, что Ф. де Соссюр в «Курсе общей лингвистики» противопоставил историческое изучение языка его
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 9/2007___ современному состоянию, считая, что синхронический аспект важнее диахронического. Такая точка зрения в европейской лингвистике была широко распространена вплоть до середины ХХ в.
Через все творчество Ф.И. Буслаева проходит тезис о неразрывной связи языка и духовной жизни народа. Он неоднократно повторял, что язык есть не только выражение мыслительности народной, но и всего быта, нравов и поверий страны и истории народа. Все, что выражается в языке, он рассматривал как выражение народного ума и быта. Изучению истории языка Ф.И. Буслаев придавал большое значение не только потому, что она объясняет употребление той или иной грамматической формы, помогает проанализировать грамматические формы, в которых перепутано старое с новым. На уровне современного Ф.И. Буслаеву состояния науки история позволяла поставить вопрос об изучении законов языка. Поскольку язык, по Ф.И. Буслаеву, есть выражение мысли с помощью членораздельных звуков, то он подчиняется, с одной стороны, законам логики, а с другой – законам самого выражения, т.е. законам сочетания членораздельных звуков (он называл эти законы внутренними законами развития языка).
В трудах Ф.И. Буслаева предстает картина исторического развития русского языка, его связей с другими индоевропейскими языками, основанная на исторической преемственности между языками древних памятников и языком современных писателей. Он первым в России показал важность привлечения диалектов как необходимой составной части сравнительно-исторической грамматики, развил традиционное для русского языкознания положение о тесной связи истории языка и историей народа, а также применил исторический метод к изучению русского языка.
Основатели сравнительно-исторического языкознания в России (И.И. Срезневский и Ф.И. Буслаев) в своих трудах затрагивали наиболее важные вопросы общего языкознания, предвосхищая европейское языкознание.
Идеи всеобщей грамматики, господствовавшие на протяжении ХVIII в. в Европе, нашли свое отражение в трудах российских лингвистов начала XIX в. Весь XIX век в истории российской лингвистической мысли можно считать этапом становления новой парадигмы – сравнительноисторической. Попытаемся обозначить центры интереса российской лингвистики данного периода в системе эпистемологических координат. Для русской лингвистики XIX в. традиционные центры интереса рациональной грамматики ( язык – мир, язык – мышление, внутренняя организация языка, языковые универсалии ) дополняются новыми, характерными для сравнительно-исторической парадигмы: происхождение языка, эволюция языка, язык – общество . Это позволяет сделать вывод, что в этом период для русской лингвистической традиции характерна тенденция к расширению поля исследований, что позволяет осуществить постепенный переход к новой научной парадигме (см. таблицу).
Таблица
|
Рациональная грамматика |
Новые центры интереса, характерные для сравнительно-исторического подхода |
|
|
Центры интереса российской лингвистики первой половины XIX в. |
|
|